|
|
|
№ 28-29 (3720-3721), 26 декабря 2005 года
|
 |
|
|
 |
 |
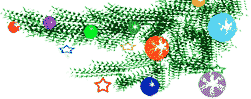
Между наукой
и мистикой
Наш собеседник – художественный руководитель Оркестра Екатерины Великой и международного фестиваля Early Music, известный петербургский скрипач Андрей Юрьевич Решетин.
Современного искусства
не существует?
— Андрей, XXI век диктует новые представления об искусстве, и в частности о музыке. Необходимо ли особое мировоззрение, чтобы воспринять и оценить современную музыку?
 |
 |
Андрей Решетин. Венеция. 2005 г. |
|
— Я думаю, что людей просто обманывают. Это история с голым королем. Никто не воспринимает современную музыку. Но некоторые люди просто делают вид, что воспринимают. Вообще в искусстве времени не существует. Нет современного и несовременного искусства. Попробуй мне доказать, что Симоне Мартини или Леонардо да Винчи – это не современные художники.
— Есть же система, в которой живет человек…
— Система очень простая. Человек в ней живет отведенные ему 70 лет. Коротенький срок. А есть система, в которой эти коротенькие человеческие сроки связываются. Это и есть искусство – корневая система, которая соединяет эпохи и времена. Почему все монархи обращались к художникам? Художник переводил их из временного в вечное. Поэтому главное в искусстве – координаты вечного. И оно всегда остается современным.
— Канун Нового года, Рождество - время подведения итогов. Для тебя играют роль календарные сроки человеческой жизни?
— Я приземленный человек, поэтому — да.
— Каковы твои итоги за этот год, как музыканта и руководителя фестиваля Early Music?
— На самом деле я еще не готов подводить итоги этого года, потому что в запасе еще есть около месяца. Я надеюсь за это время успеть сделать кое-что, что может радикально изменить картину года. Что касается меня лично, при том, что в этом году у нас прошел роскошный фестиваль, вышла новая книжка – Карл Филипп Эммануил Бах «Искусство игры на клавире», вышел первый диск нашего СD-лейбла. Я рассчитываю, что произойдет еще много событий. Должно пройти несколько концертов. В принципе, есть все основания быть довольным, потому что мы все живы, и жизнь проходит не напрасно.
Мансарда Акселя
— Early Music – это твой личный триумф. Расскажи о том, что послужило ступенями к нему?
— Фестиваль — это великое дело, а великие дела в одиночку не делаются. Есть люди за кулисами, на чьих плечах все держится. Фестиваль – наше совместное творчество с Марком де Мони. Мы с ним не бизнес-партнеры, а друзья. Кроме того, у нас сложилась удивительная команда. Постоянно случаются какие-то накладки, то канализацию прорвет накануне концерта, а переносить концерт некуда, то инструмент ломается… Перед концертом в Мальтийской капелле прорвало канализацию. И все затопило сами понимаете чем. Наш администратор, Дина Крумер, нашла рабочих, которые наладили канализацию, а потом поехала купила ароматические свечи и установила их по всему периметру зала. И всем очень понравилась эта «изящная художественная задумка». Никто и не догадался, какие низменные причины лежали в основе этой красоты. А когда приехали музыканты Red Priest, оказалось, что репетировать им не на чем – у филармонического клавесина ночью ножка подломилась и он упал. Дина за сорок минут организовала доставку нашего клавесина. Это все происходит на уровне невероятного…
А если говорить о ступенях… Вокруг любого человека есть люди, которые его любят, есть небудничные события в жизни, все это его и формирует. В свое время, когда я начинал играть на скрипке, я попал в класс к Марку Моисеевичу Резникову. Он передал меня в специальную музыкальную школу к лучшему в те времена учителю Арону Кнайфелю. Арон Кнайфель семь лет своей жизни вложил в меня, не просто учил, а именно отдал мне эти семь лет. При том, что рост человека не проходит гладко, а по каким-то кривым, через кризисы. И Арону хватало терпения, опыта, знаний, мудрости и чуткости. А потом была мансарда Акселя…
Был в Петербурге такой художник и философ Борис Аксельрод. Все его звали AXL (Аксель). И была у него мансарда на Фонтанке. Туда приходило много людей. А на дворе – начало 80-х годов, большие сборища не поощрялись. Очень многое можно рассказать про мансарду, но главное, кем бы эти люди ни были там, внизу, на земле, когда они оказывались на мансарде у Акселя, они оказывались просто людьми, такими, как есть. И те, кто внизу были отребьем общества, оказывались наверху нормальными, порядочными людьми. А были такие важные, оказывались наверху без галстука и портфеля тоже — просто людьми, но не такими замечательными, как они сами считали. Многие успехи, которые внизу очень ценились, наверху были маленькими, незаметными … На мансарде у Акселя с людьми происходили настоящие метаморфозы. Конечно, долго это продолжаться не могло, потому что там еще много всего удивительного происходило. И место это прикрыли. Акселю самому пришлось уехать.
Мансарду у него отобрали, а его вызвали куда следует и сказали: «Знаете, Борис Петрович, у вас фамилия Аксельрод, наверное, корни еврейские хорошие». А так как разговор был серьезный, и события происходили серьезные, год на дворе стоял 82-й, пришлось ему уехать. Аксель оставил нас, своих музыкальных детей, на попечение своему другу Феликсону – Феликсу Равдоникасу. И Феликсон в нас многое вложил.
 |
 |
Группа «Аквариум». 1990 г. Второй слева Андрей Решетин. |
|
А потом ближайший мой друг, Сашка Куссуль, Сиша, который начал в «Аквариуме играть», погиб, переплывая реку. Дочка Феликса подросла и у нее на Третьей линии открылся филиал Акселевой мансарды, а потом и ей пришлось уехать… Жизнь состоит из того, что приходится переживать много трудных потерь, и когда думаешь о триумфе, о личных достижениях, понимаешь, что на самом деле все это в тебя вкладывали, и это должно было в тебе прорасти, и ты должен это вложить в других. Жизнь нам дана для того, чтобы испытывать счастье, страдания, обретать себя. Знаешь, как-то все это не очень похоже на «триумф». Делать свое дело хорошо – так в этом и есть счастье. Триумфа я не ощущаю. У меня еще специальность такая: иногда думаешь после удачного концерта, какой же ты хороший скрипач… а потом после другого концерта понимаешь, что нет, батенька, все совсем не так. В нашем искусстве нельзя расслабляться.
— Группа «Аквариум». Ты пребывал в ее составе пять лет.
— С 87 по 92 год. По моему мнению, это самая лучшая легендарная группа в России, там все люди как драгоценные камни. Боб – настоящий бриллиант, и Сева Гаккель, и Дюша, и Сашка Титов, и Сашка Ляпин, и Фанштейн, Петя Трощенков, Сиша какой был скрипач, это просто невероятно. Я могу назвать с десяток альбомов Боба, которые – навсегда. «Акустика», «Треугольник», «Табу», «Десять стрел», «День серебра», «Дети декабря»…
— Эти альбомы были записаны без тебя?
— Да, я попал в группу позже. Сиша два года провел в «Аквариуме», а я туда пришел после его смерти. «Равноденствие» было сделано с моим участием, и «Русский альбом». Как будто судьба отправила меня доживать жизнь моего любимого друга. Сиша бы это сделал за полгода, а у меня на доделки ушло пять лет. Я вспоминаю с нежностью это время, благодарен этим людям, с которыми мне довелось стоять на одной сцене, на пике их славы.
Рок-музыка: вид сбоку
— Опыт рок-музыки противопоказан музыканту, который играет барокко, или же, наоборот, необходим?
— Я получил академическое образование, это образование было фантастическим. Но чтобы человек состоялся, он должен уметь увидеть то, чему его обучили, с другой точки зрения. Надо посмотреть на свой опыт, что называется, сбоку. И судьба дала мне такую возможность, отправив меня в рок-н-ролл. И многим вещам, о которых я в своем академическом образовании даже не подозревал, я там научился. А потом судьба опять сделала зигзаг, и я стал серьезно заниматься старинной музыкой. Я и до этого ею занимался, после знакомства с Феликсоном, еще в начале 80-х, но это была скорее игра в старинную музыку, и только потом я определил это для себя как дело жизни. Еще важнее то, что была возможность не линейного движения, а зигзагообразного. Помните, в фильме Тарковского «Сталкер» примерно такой диалог: «Пройти по прямой – ближе». «Нет, пути по прямой не существует». Оказывается, все зигзаги в пути – это самое ценное. Я считаю, что в любой профессии, если человек получил хорошую школу, по-настоящему состояться он может, только выйдя за рамки этой школы, как бы получив ее внутрь себя, впитав в себя ее гены, а потом развив их в других условиях.
— По дороге к Оркестру Екатерины Великой был ансамбль «Музыка Петрополитана»…
— Чудесный ансамбль. В 90-е годы в России ничего из старинной музыки такого уровня не было. Мы и были первыми музыкантами, которые в России начали играть на таком уровне. Мы выиграли в 1993 году первое место на конкурсе Ван Вассенаера в Амстердаме. Одним из первых музыкантов-исполнителей, который начал этим заниматься в России, был Леша Любимов. Безусловно, мировая величина в аутентизме. Хаммер-клавирист величайший. Хаммер-клавир – это фортепиано XVIII века, для которого писали Моцарт и Гайдн, который ничем не напоминает современный рояль. И назывался он пианофорте, а не фортепиано, за то, что мог играть очень тихо, в отличие от помпезных клавесинов. Я играл в ансамбле «Музыка Петрополитана» 13 лет. Года два играл одновременно и там, и в «Аквариуме».
В «Петрополитане» не было лидера, мы все были на равных: быстро пришло понимание, что неважно, за чьим мнением последовать – за своим или товарища, потому что все дело не в том, какую идею взять за основу, а как ее воплотить. Как в кунфу, виртуозного владения одним базовым приемом может оказаться достаточно для того, чтобы одержать верх над самыми изысканными техниками своих соперников. Так же и у нас, главное – воплощение. Музыка всегда предлагает много путей для воплощения. Но важно — «как».
— Петербург очень разнообразен – прекрасные архитектурные ансамбли и подозрительные коммуналки, вещи в себе. Какое влияние оказала на тебя эта среда?
— Я целиком состою из воздуха Петербурга, где бы я ни ездил, ни играл концерты. Через Петербург открываются для меня удивительные вещи в искусстве. Когда-то просто гуляя по улицам, я любовался дворцами, а потом начинал разбираться, почему это так действует на тебя, узнаешь, кто архитектор, что за отношения были у него с современниками. Город читается как книга, в которую начинаешь углубляться.
— Страшноватая книга, если учесть историю города…
— Как раз этим я занимаюсь в своем исполнительстве – соединяю эстетику с историей. Приведу пример. Никита Акинфиевич Демидов – меценат, который много помогал величайшему скрипачу XVIII века Хандошкину, заказывал ему музыкальные произведения, в его усадьбе на Мойке жил Мусин-Пушкин, и там хранился оригинал «Слова о полку Игореве». Никита Акинфиевич был чрезвычайно богатым, толковым человеком, жил во Флоренции и прислал оттуда ко двору Екатерины слепок Флорентийских ворот. Когда строился Казанский собор, этот слепок пригодился. Правда, при отливке фрагменты перепутали местами. Вот пример – как город толкает тебя на изучении истории, историй и культуры. Город, который выстроен всего триста лет назад…
Первые сто лет город часто менял свое лицо из-за пожаров и связанных с ними перепланировок, перестроек. Это позволило за какие-нибудь сто лет Петербургу пройти такой путь архитектурной истории, на который у других городов (Москва, Лондон, Париж) уходили столетия. Но если рассматривать его в динамике, то я бы начинал от того самого несбывшегося плана Леблона. Уже тогда это был величайший город на планете. В задумке, недаром план Леблона входит во все учебники по барочному градостроительству.
Петербургу всего триста лет, а он связывает нас и с европейским классицизмом, и с европейским барокко, с ренессансом, и с античностью. Парадоксальным образом все те времена искусства пришли сюда. Через людей, через события, это и есть реальная история.
Чего стоит небесная линия?
— Как ты считаешь, новое время для Петербурга губительно или перспективно?
— Я считаю, что нынешнее время Петербурга – это прежде всего мы. Есть какие-то другие люди, которые придерживаются других эстетических взглядов, для которых главное – бабла нарубить. Которые ничего не чувствуют: «Староваты тут дома, вот новостройки – это класс». Но мы тоже современность. Ты со своими картинами, я со своей любовью к старинной музыке. И мы, может быть, самая важная современность. На Восьмой линии за фасадами восстанавливаемых двухэтажных домов XVIII-го века эстонцы собрались выстроить 27-метровый отель из бетона и стекла, который будет виден со всех точек, начиная от Дворцовой набережной и заканчивая Английской. Помнишь, как Лихачев говорил про «небесную линию Петербурга»? Этот дом небесную линию разрушит. И произойти это должно уже в скором времени. А следующий год будет годом Лихачева, исполнится сто лет со для его рождения. На прошлой неделе мы, группа активных жителей, подали в суд на администрацию Василеостровского района, которая позволяет таким вещам случаться. Там еще несколько жильцов нашего микрорайона. Важно, чтобы мы, те люди, у которых есть эстетическое восприятие города, не давали совершаться злостным делам. У тех, кто это делает, либо атрофирована совесть, либо нет вкуса, и они не видят очевидные вещи.
— Упомянутое тобой «бабло» – это символ нашего времени?
— Знаешь, жизнь на этом не стоит. Мир не сможет продолжаться, если в основу ляжет вот это. Оно отойдет со временем, единственное, что перед этим много гадости успеет произойти. Я вчера разговаривал с Александром Кобаком, у него назначена встреча совета при губернаторе, и будет там поднимать три вопроса по поводу строительства в Петербурге. И один из них – по поводу того ужасающего корыта, которое у Исаакиевской площади построили. Понятно, почему этот отель там появился – хозяева хотят, чтобы с их новостройки открывался вид красивый. Но штука в том, что они хотят торговать видом, который не они создали, который не им принадлежит, и который их действия разрушают. Даже если смотреть с точки зрения бабла – они попросту нас обворовывают.
— Есть такое понятие – единая психологическая матрица эпохи. Философия, мировоззрение, опыт тоже в нее входят. Может ли человек, в «матрице» которого присутствуют мировые войны и умопомрачительные потоки информации, адекватно воспринимать музыку, написанную для времени, в котором все было по-другому?
— Конечно, нельзя подходить к старинной музыке с исполнительскими критериями сегодняшнего дня. Инструменты были иными. Баха на рояле играть можно, но правильнее играть на клавесине, потому что именно для этого инструмента он писал свою музыку. На клавесине же нельзя сыграть форте или пиано.
А твой вопрос можно перефразировать так: насколько мы изменились как люди за прошедшие столетия?
Я начну отвечать на этот вопрос с другой стороны. То, чем занимается аутентизм, историческое исполнительство – это реконструкция, начиная с музыкального инструмента и заканчивая правилами исполнения, а цель – воспринимать Баха настолько близко к его собственному восприятию, насколько это возможно. Поразительная вещь, но это невероятно обогащает духовно и интеллектуально. Почему? Оказывается, что человек за последние 200-300 лет больше потерял, чем приобрел. И ты можешь возразить – это все музейщина, археология какая-то. А я скажу – вовсе нет. Вот мы, два человека, впервые начали разговаривать. Ты что-то мне говоришь. А я это воспринимаю с позиции моего сегодняшнего дня, того, как он у меня сложился. Но если мы хотим более глубокого разговора, если мы хотим ощутить себя людьми, а не временными несущимися по будням субстанциями, мы даем себе время остановиться и выслушать друг друга. Возможность разговора не ограничена рамками времени. Когда мы говорим о музыке, которая написана 300-400 лет назад, на самом деле мы просто даем себе время остановиться и услышать другого человека, автора, композитора. И не важно, что он находится не на другом стуле, а в другой эпохе. Ты даешь себе силу разобраться, что же он говорит своей музыкой или своей книгой. И вдруг оказывается, что твой собеседник намного интереснее, чем то, что ты видишь в сегодняшней действительности. И это не уход от современности, это ее обогащение.
Хлеб или зрелище
— Как тебе кажется, нынешнее декларированное клиповое сознание не мешает таким отношениям между людьми?
— Это очень интересный вопрос. Действительно, что касается современного человека, масс-медиа, телевидение в первую очередь, настроили нас на мельтешение. Они дают нам некую энергию, что в принципе хорошо. Действительно, человек информационно перегружен и нужны все новые и новые способы улавливания его внимания. Вся штука в том, что происходит с этим вниманием потом. Аксель говорил, что внимание – это золотой ключ, к чему его приложишь, то и откроется. Это действительно так. Внимание – это магия. Все, чему мы учимся – фокусировать и удерживать внимание. Это невероятно тяжело. Что касается старинной музыки – ее интерес, богатство, разнообразие находятся как раз в зоне не суетного, гораздо более спокойного внимания. Раньше внимание не нуждалось в такой сильной вибрации, как сегодня.
Сегодня многие смотрят на искусство как на развлечение. А искусство – это, некоторым образом, пища. Потому что мы так или иначе чем-то наполнены, коль скоро мы люди. Есть внутри нас душа, некое культурное пространство. Оно может быть наполнено радио-шансоном. Или чем-то другим. В любом случае какая-то начинка в нас есть. И далеко не у всех нас наша природа соответствует этой мельтешащей, клиповой «культуре». Путь к самому себе тих. Помнишь, Господь говорил Илии: но не в громе и землетрясении буду Я, а в тихом, лёгком дуновении ветерка. Старое определение музыки гласило, что это – звуки, рождающие тишину.
О чем не спорят при демократии
Человек все время для себя открывает небеса. Для кого-то эти небеса могут быть рок-н-роллом, для кого-то – Филиппом Киркоровым.
Безусловно, есть такое понятие, как хороший или дурной вкус. Выражение «о вкусах не спорят» не имеет никакого отношения к демократии. Оно тождественно выражению «не мечите бисер перед свиньями». Человеку с дурным вкусом очень трудно объяснить что-то. Поэтому в качестве предупреждения говорят: о вкусах не спорят, имея в виду «не мечите бисер перед свиньями».
У каждого человека в душе есть свое небо, своя преисподняя и своя земля. Это небо может подниматься, и при этом оказываться ближе к земле. Парадоксальные вещи. То, что я говорю – трудный русский язык, который требует объяснения и комментариев. Что из этого делает нас по-настоящему счастливыми? И что такое культура? Культура – это уровень нашего самоосознования, то, что делает нас людьми. Не плевать на улицах, уступать место в троллейбусе – это правила поведения. А культура – это то, как мы себя осознаем. И искусство – это инструмент, позволяющий уровень этого самоосознования радикальным образом увеличивать. Почему? Я тебе отвечу как человек, для которого главное по жизни – на скрипке играть. Я могу очень красиво говорить. Я с детства могу красиво говорить о разных вещах, о музыке мог так рассуждать, что каждый заслушается. Но когда я скрипочку брал в руки, у меня такой звук неприятный выходил… людям не покажешь. И вот началось с того, что надо было научиться хорошо играть. И я сталкивался с неразрешимыми проблемами. Оказалось, чтобы улучшиться, надо не просто напрячь всю свою волю, свой интеллект, но и интуицию. И тогда ты станешь играть чуть-чуть лучше. Для этого надо произвести глубокие метаморфозы внутри себя. Казалось бы – делай пассажи, тренируй переходы. Оказалось, все не так просто. Надо провести очень много времени со скрипкой, надо заставлять свое внимание концентрироваться на этих переходах, чтобы рука шла мягко… а все равно оказывается, что твой пассаж хуже, чем у твоего идеала или более удачливого товарища. И ты заставляешь себя расслышать какие-то микроны, но, заставляя себя расслышать их, ты большую часть выдумываешь. Для того чтобы услышать реально, надо несколько лет развивать эстетический слух. Надо очень глубоко влезть внутрь себя. Это чистой воды алхимия. И потом, когда ты научился играть эти пассажи, ты приходишь к выводу, что это на самом деле не важно, что музыка – в другом. И от того, как ты отвечаешь на эти неразрешимые вопросы, которые возникают естественным образом, от того, какую планку ты сам себе ставишь, зависит успех. При том, что это может быть абсолютно непонятно окружающим, но ты в этом абсолютно уверен. Потому что у каждого шага есть веские причины. И в виде следствия все время открывается путь, по которому можно сделать следующий шаг. И я с полным основанием говорю – как человек, который создает искусство и воспринимает его – культура есть не что иное как способ осознавания себя, своей жизни, смерти на очень глубоком уровне… осознавание чего-то большего, чем жизнь и смерть.
 |
 |
Оркестр Екатерины Великой. 2005 г. |
|
Что касается науки – на первый взгляд, там похожая вещь происходит. Наука – это молодое дело, ей триста лет с небольшим. А искусство вечно. Потом, даже в науке все открытия происходят иррациональным путем. Или вот пользуемся мы мобильным телефоном. Это ведь повод для постоянного переживания чуда. Как я могу на огромном расстоянии общаться с другим человеком? А для нас это какая-то утилитарная вещь. Наука привела к тому, что ощущение чуда исчезает. Все королевские дворы соперничали друг с другом в искусствах, потому что это то, что от них оставалось, когда их время заканчивалось. И вот в XX веке монархии, даже конституционные, отошли на второй план. В чем теперь соревнуются люди? Кто круче бомбу построит. Причем, в их деле совершенно очевидно заметен прогресс. То есть, они живут под знаменем прогресса. А в искусстве нет прогресса. Чем современное фортепиано лучше клависина времен Моцарта? И никак не лучше Энди Уорхолл Леонардо да Винчи. Как вообще их можно сравнивать?
Одна из важнейших вещей, которым учит наш фестиваль – в искусстве нет прогресса. Потому что искусство – это вневременное явление.
Мы говорим с Бахом или Бах говорит с нами?
— То, что ты говоришь, сродни мистицизму.
— Искусство очень рационально. Сыграть фугу Баха все равно что решить уравнение, чисто математическое.
Надо уравновесить все куски формулы. Сама тема состоит из разных аффектов. Единицей языка является аффект, некая интонация. Их может быть две, три. В целом они сплетаются в одну тему, и это становится темой фуги. Дальше выстроил это внутри по иерархии, иерархий тоже может быть несколько. Развивая тему фуги, я вынимаю энергию, присущую тому или иному аффекту. Но Бах все время изменяет внутреннее членение. И я должен понять, что он говорит, и ответить ему. Вот здесь – другая гармония, мало того, что я среагировал на то, что говорит автор, барокко требует, чтобы я показал это. Улыбнуться – значит, сделать так, чтобы все увидели эту улыбку. Вот этот тип разговора о формах проявления характерен для барокко в целом – это и парки, и архитектура, одежда, еда, питье, секс. Но когда я показываю, я могу добавить что-то от себя в рамках того, что предписано мне автором. Это мой разговор непосредственно с Бахом. Между нами возникает игра, хотя нас разделяет много веков. Форму произведения надо уравновесить. Потому что если этого не сделать, то даже если тебе понравятся первые ноты, потом мозг не будет успевать реагировать на те вещи, которые я делаю. Потому что я этим всегда занимаюсь, а ты просто приходишь послушать. Если я не уравновесил все формы, то через некоторое время ты выключишься. А надо, чтобы произведение привело тебя к катарсису, сложилось в некую эмоционально-математическую историю. В ней всегда есть много неизвестных. Например, где начало, а где конец фразы? Представь себе сложную поэзию без единого знака препинания. Насколько правильно ты ее прочел, каким образом начинают играть смыслы? Надо понять, что за задание дает тебе автор. Везде одни и те же ноты, картофелины черные или белые, а смысл совершенно разный, истории разные, как старик Феликсон пишет в своем труде: «Мы избрали для временных явлений, которым является музыка, пространственные символы». И это является очень неточной символикой. Только когда ты это просчитал в голове, возможно вложение эмоций. И тогда произведение становится действием.
— А почему прогресс невозможен, ведь можно усовершенствовать формулу?
— В XIX и даже XX веке казалось, что есть некий прогресс языка, что можно придумать что-то такое, чего не было придумано раньше. Общий уровень невежества позволял людям думать, что они действительно изобретают что-то такое, чего никогда не было. Я был на выставке, где человек в свою картину вставил ткань, камни. Вот, де, современное искусство, а раньше, в прежние века так не делали. А потом я встретил работы Симоне Мартини – начало XV века, и там все эти приемы используются в полной мере.
Был скрипач в XVII веке, Томас Балтзар. Еврей со скрипочкой, который пришел в Германию непонятно откуда, бродил из княжества в княжество, очень много в Любеке работал, а потом сел на корабль и уплыл в Англию. Там он стал первым английским скрипачом. Он там умер от пьянства. Его произведения очень просты по сравнению с произведениями, например, Паганини, но ты понимаешь, что в той музыке было все, и может, даже больше. Хотя нот меньше. Приведу пример более понятный. Дневники Бенвенуто Челлини, где он пишет, что отец и друзья уговаривали его бросить занятия чеканкой и заняться музыкой – ведь он гениальный музыкант. И вот сегодня мы знаем Челлини по его чеканкам, скульптурам как непревзойденного мастера. А когда мы берем музыку того времени, мы видим простые картошки, для первого-второго класса музыкальной школы. И возникает вопрос: неужели его современники были полными идиотами, не понимали, какой он крутой скульптор. Или со скульптурой у него все получалось чисто случайно, и он сам этого не осознавал, а на самом деле его уровень был очень примитивен. Нет, это значит, что мы в нотах музыки, которую играл Челлини, читаем что-то совсем не то. Наверное, искусство исполнения этих примитивных нот, картошек, все, что не записывалось, но было предусмотрено устными правилами и слуховой традицией, видимо, было по уровню сопоставимо с другими работами Челлини. Наши предки были не глупее нас, но когда начинаешь этим заниматься, когда раскапываешь, на чем держалось искусство, какие у него были принципы, видишь, что эти принципы были более глубокие, чем в искусстве наших дней.
Поцелуй как фигура умолчания
— То есть, можно сказать, что ты – шифровальщик несказанного?
— Издательство Early Music Publishing House в этом году выпустило книгу Карла Филиппа Эммануила Баха, одного из сыновей Иоганна Себастьяна, «Искусство игры на клавире» – впервые на русском языке. По книжке этой учились Бетховен и Рубинштейн. И она никогда не переводилась, при том, что сам Бах писал об этой книге: «Очень на севере популярна, особенно в России».
Так вот, Бах говорил, что все, что мы записываем в нотах – это до определенной степени неточно, очень многие вещи надо знать дополнительно. Это происходило во второй половине XVIII века, когда язык музыки был уже достаточно сложен. Каждый музыкант является в каком-то смысле расшифровывателем несказанного. Допустим, ты что-то понял в старом тексте. Но для того, чтобы он ожил, не хватает одной вещи – надо пропустить его через собственное сердце, в котором – время сегодняшнее. У нас есть ноты, старые инструменты и трактаты о том, как эти ноты читать и играть. Вот все, с чего мы начинаем работу по правилам исполнительства. И что получается?
Представь себе, что мы должны сообщить нечто важное людям будущего. Я не знаю, какие это будут люди. Может, после атомной войны они будут жить в скафандрах. И мы беремся рассказать им о своей жизни. Мы говорим: поцелуй прекрасен, это очень чувственная вещь… Они не очень понимают словосочетания «чувственная вещь». Мы говорим: поцелуй, это когда голова очень близко к голове, губы к губам, дыхание замирает, глаза закрываются. Они пытаются реконструировать это – голова к голове, губы к губам, закрывают глаза и задерживают дыхание ведомым им способом, возможно, у них на этот счет есть целая наука, раз уж они живут в скафандрах. Получат ли они поцелуй?
Вряд ли. Потому что надо еще что-то. Это «что-то» всегда оказывается фигурой умолчания. Потому что, даже имея музыкальный инструмент, имея нотный текст, в котором самое существенное – фигуры умолчания, имея трактат, который описывает, как надо читать этот текст, мы нуждаемся еще в собственном опыте.
— Я достаточно часто бываю на твоих концертах, и понимаю, что публика – узнаваема, это одни и те же люди. Не считаешь ли ты, что в принципе слой людей, которые могут чувствовать аутентичную музыку сейчас, достаточно тонок, что обществу в наше время свойственна некая глухота?
— Нет, концерт рассчитан от силы на триста-четыреста человек. В Бостоне в июне был концерт в зале на 1200 мест, но это исключение. Мы же играем музыку, которая исполнялась в маленьких салонах.
— Пятимиллионный город, и всего 400 человек в зале...
— Во-первых, это хорошо, что ты встречаешь одни и те же лица. Это значит, что люди, которые полюбили эту музыку, не разочаровываются в ней. Во-вторых, на фестивале новой публики все равно очень много. Но любителей нашей музыки всегда будет меньше, чем любителей футбола или пива.
А потом, в нашей беседе, когда она превратится в публикацию, может появиться еще один собеседник – читатель. И неважно, сколько этих читателей придется на пятимиллионный город. Важно, что беседа хорошая.
Есть какие-то вещи, которые очень трудно сохранить при большом количестве людей. Когда ты в Лувре подходишь в Джоконде, ты не можешь ее воспринять, там толпа народу. Ты к ней даже не приблизишься. В Янтарной комнате ты не сможешь ощутить действие янтаря, потому что через нее идет поток посетителей.
Безусловно, для нашей музыки нужна определенная интимность. И если мы говорим, что Малый зал Филармонии на 400 человек с точки зрения пятимиллионного города – это очень мало, то с точки зрения музыкальных произведений это очень много. И с той, и с другой стороны это компромисс. Какие-то вещи хочется слушать в абсолютном одиночестве. Если музыканту удается подарить это одиночество, переживание самого себя наедине с музыкой в зале на 400 мест – это великий музыкант.
— Я не знаю, о чем говорить с этим человеком, он предвосхищает любой вопрос!
— Это и есть общение музыканта с аудиторией. Но успех концерта зависит не только от музыканта. Опять-таки, как Аксель говаривал о том, что такое религия: «Корень — лига, ваш музыкальный знак, означающий связь. И «ре» — возврат, повторение». Общение. Музыка устанавливает связь. И сколько при этом человек присутствовало, совершенно неважно». 
Александр Гущин,
Венера Галеева
|