|
|
|
№ 1-2 (3657-3658), 19 января 2004 года
|
 |
|
точка зрения ученых
|
 |
 |
Исследование,
 наполненное наполненное
 слезами слезами
Я не знаю – возможно ли проводить объективное исследование (формулировать гипотезы, интерпретировать результаты), если «тема» - это твоя бессознательная transgeneration (передаваемая из поколения в поколение) травма. Как и все дети блокадников, я читала воспоминания и слышала скупые (обычно раз в году, в январе) рассказы близких, но только в последние годы на основе своей психотерапевтической практики стала осознавать невидимые (и фактически нерегистрируемые психометрическими методами) нити, связывающие нас с тем историческим и психологическим опытом. И я заторопилась с исследованием, потому что испугалась, что мы не успеем узнать «правду»: сегодня с нами остались только те, кто были в блокаду детьми, и каждый день их становится меньше и меньше. Три года мы интервьюировали людей, которые согласились участвовать в исследовании – многие (почти каждый второй) соглашались сначала, но потом, видимо, соизмерив свои эмоциональные силы, извинялись и отказывались. Другими словами, спустя 60 лет еще не все блокадники готовы говорить об этом. Каждое интервью длилось от одного до трех часов, были «выслушаны» (я не могу говорить «обследованы», как это принято в научной психологической литературе) 70 человек, половина из которых оставались в осажденном городе, и половина пережили войну не в Ленинграде. Для коллег-ученых упомяну, что «экспериментальная и контрольная выборки были выравнены по составу (пол, возраст), и для обработки результатов использовались стандартные математико-статистические методы и контент-анализ текстов».
Анализ отечественной и зарубежной научной литературы, проведенный нами, показал, что исследования психологических последствий травм военного времени проводились только в отношении выживших узников концлагерей: первая публикация датируется 1948 годом, психоаналитические исследования ведутся до сих пор, но единственным используемым методом был и есть анализ случаев (case-study). Кроме этого, имеются данные медицинских (но не психологических) исследований влияния голода на здоровье последующих поколений (Голландия, Чили, Ирландия). И третьим источником сравнительного анализа отчасти послужили материалы лонгитюдных исследований ветеранов американской войны во Вьетнаме. Психологических исследований влияния травм военного времени на мирное население в мировой практике не проводилось.
 |
 |
Гулина Анна Михайловна, выжившая с двумя сыновьями Анатолием и Юрием весь период блокады, после окончания войны. Выражения лиц всех трех «блокадников» печальным образом схожи между собой.
|
|
Мы можем предположить, что полученный нами материал представляет собой соединение нескольких исторических и психологических опытов в сознании (и в бессознательном) каждого отдельного участника исследования. Это, во-первых, его детский опыт, который всегда мифологичен. «Миф» в случае, когда мы имеем дело с мышлением ребенка – это не вымысел, а способ ребенка снять противоречия в его знании о мире. Именно поэтому часть интервью касалась ранних детских воспоминаний, образа отца и матери, образа «врага». Во-вторых, это опыт окружавших ребенка взрослых, через призму которого он видел происходящее и часть которого он интроецировал, то есть принял как свой собственный, и это стало частью уже его личности (в отличие от своего первичного опыта, этот «вторичный» опыт ребенок, когда станет взрослым, сможет в некоторой степени пересмотреть). Можно сказать, что блокадный ребенок подвергался как минимум двойной травме, каждая из которых была близка к пределу человеческих возможностей: его собственная боль, страх за себя (голод, холод, одиночество в течение рабочего дня матери, возможная опасность со стороны других взрослых и так далее) и страх за другого (мать могла не вернуться никогда, и, скорее всего, маленькие дети проживали «смерть» матери много раз, так как чувство времени даже у здорового ребенка формируется после шести лет, а в условиях депривации (deprivation – лишение) даже у взрослых узников концлагерей чувство времени разрушалось). По нашим наблюдениям, в случаях детской травмы военного времени страх за другого часто преобладает над страхом за себя и в последующей, взрослой жизни человека. Как многое в психологии, это не «хорошо» и не «плохо», так как может принимать различные формы отношений с собой и с миром.
Кроме того, следует помнить, что более ранний и более травматичный опыт подвергается более сильному вытеснению из сознания, то есть становится все более недоступным как для самого человека, так и для окружающих, поэтому в исследовании одной из задач было сравнение сознательной и бессознательной оценок событий. Оно, в частности, показало, что на сознательном уровне блокаду к числу самых трагических событий в жизни относят 51% людей, ее переживших. При диагностике бессознательного отношения число людей, выделивших период блокады как самый травматичный, увеличилось в полтора раза, то есть в среднем на 50 %. В контрольной же группе (люди, пережившие войну в детском возрасте не в Ленинграде) аналогичный разрыв между сознательной и бессознательной оценками наиболее трагических событий жизни составил более чем 400 %. Полученный результат (как и другие: длительность интервью, объем, содержание, эмоциональнная насыщенность и др.) может говорить о том, что этот глубоко травматичный блокадный опыт детства или подросткового возраста до сих пор в большой степени является непереработанным в силу своей болезненности. Что же касается людей, не переживавших блокаду, но перенесших войну в детском возрасте, то степень изоляции травмы (один из бессознательных защитных механизмов личности, направленный на снижение тревоги путем удерживания на расстоянии от сознания болезненного опыта) и неосознанности ими собственного опыта в несколько раз превышает степень изоляции травматичного опыта у блокадников, что наводит на серьезные размышления и требуется проявлять еще большую осторожность в интерпретации результатов.
Очень трудно проводить аналогии с блокадным опытом в силу его объективной уникальности, но, может быть, этого не надо бояться, потому что в любом случае это часть истории человечества, и в конце концов – «нам внятно все». Воспоминания детей блокады о тех изменениях, которые произошли в характере их матерей после блокады (см., например, замечательные по своей точности и яркости воспоминания Н.Н.Коноваловой в выпусках журнала «Санкт-Петербургский университет») напоминают личностные изменения, наблюдавшиеся у некоторых узников концлагерей. Причиной этому может быть не только уровень пищевой депривации, но и тяжесть ответственности за судьбу ребенка, необходимость принимать решения (эвакуироваться или нет, например) в условиях полной неопределенности и высочайшей «цены» ошибки. Различные зарубежные исследователи – психиатры, психоаналитики, часть из которых сами являлись узниками или/и работали с жертвами фашистского режима в послевоенные годы, описывают ряд следующих обнаруженных ими психодинамических феноменов. На первой стадии личностной деструкции наблюдались явления деперсонализации, ступор или острые приступы тотального страха (Cohen, 1953). на следующей фазе адаптации (заметим для специалистов-психологов, что эти работы были опубликованы до разработки теории стресса Гансом Селье) наблюдались состояния глубокого «траура», «скорби» (mourning), всепоглощающее чувство вины (!) или апатия (Niederland, 1961; Friedman, 1949). Если давление внешних факторов не ослабевало, то психологическая регрессия (возвращение к более ранним, примитивным формам существования) принимала стойкий характер, а также часть узников начинала идентифицировать себя с агрессором (офицерами СС) как с фигурой наказывающего, но всесильного и непобедимого символического Отца (похожий феномен описывает В.Шаламов в рассказах о ГУЛАГе). На последней стадии этой насильственной деструкции личности в других случаях неожиданными на первый взгляд были острые состояния ненависти к себе и поиск «первичного» отца как идеала для группы (Bettelheim, 1960). Мы можем предположить, что эти же механизмы включались и у части населения осажденного Ленинграда, а также интересной может быть гипотеза о том, что наличие «первичного идеального Отца» (в подавляющем большинстве случаев им являлся И.Сталин) предотвращало развитие негативных идентификаций с гитлеровцами.
Другие авторы отмечают схожие феномены: глубокую реактивную депрессию, разрушение самооценки, потерю ощущения развития своей личности и движения времени; разрушение чувства идентичности («кто я?»): развитие чувства глобальной несправедливости и утрату ощущения ценности любви и уважения в отношениях между людьми. Альтернативным вариантом развития деструктивных изменений было развитие хронической агрессии (как защиты от депрессии), которая могла принимать самые различные формы (Hoppe, 1962; Erikson, 1950; Tas, 1951). Достаточно обратиться к воспоминаниям педагога Л.Раскина о положении детей, оставшихся без родителей, чтобы понять, откуда выжившему ребенку или взрослому приходилось (посчастливилось) вернуться: «Дети лежали в постелях истощенные, с широко открытыми глазами. Едва передвигались. Ужас от перенесенного застыл в глазах. Кожа лица, рук и тела была непроницаема от грязи. Вши ползали по исхудавшим тельцам. Многие дети не видели по 15-20 дней горячей пищи, даже кипятка».
Именно поэтому одним из вопросов интервью был очевидный: «Что помогло вам выжить в блокаду?», хотя мы понимали, что ответа на этот вопрос, возможно, и нет. На осознанном, вербальном уровне половина участников в качестве того, что им помогало выжить в блокаду, называли «внешние ресурсы», такие как: «жгли книги», «грели кипяток», «развели огород», «нашла семена, принесла земли и на полу растила салат, поливала водой из Невы», «запасы были», «мама ходила на бадаевские склады за “сладкой землей”», «пили хвойный экстракт», «жевали дуранду», «съели собаку» и другое.
Примерно такое же количество участников назвали «семейную сплоченность, поддержку родителей». Помогали «любовь и забота родителей», «то, что мы были все вместе в семье, и это было общее дело – пережить», «дружность».
«Внутренний ресурс» был назван на третьем месте. К этой группе относятся такие ответы, как: «вера в победу», «вера в освобождение», «оптимизм», «энтузиазм», «сила духа», «уверенность, что победим, ведь мы знали, что защищаем город», «вера, что враг в Ленинград не ступит, надежда, что прорвут блокаду».
На четвертом месте была названа «сплоченность людей вообще», «доброжелательная атмосфера у родителей на работе», «человеческое отношение друг к другу», «коллективизм». Ответ «самодисциплина» оказался на пятом месте, как и «крепкое здоровье» («здоровый организм до блокады», «гены хорошие», «молодость»).
9% говорили о «сосредоточенности на текущей деятельности». В эту группу были включены ответы: «сосредоточенность выжить», «никаких посторонних мыслей, кроме насущного», «одним днем жили». 6% участников помогал выживать «сон». К этой категории в частности относятся следующие ответы: «то, что спала по 20 часов в сутки» и «я ощущала страшную тяжесть, от которой хотелось спать, сон и спас меня». Сон приносил не только отдых и экономию сил измученному телу, но и позволял человеку «забыться», абстрагироваться от тяжелой действительности. Однако при этом надо иметь в виду воспоминания других блокадников о ночных кошмарах после войны; те же феномены наблюдаются у ветеранов войн и бывших узников. Так, один из узников Аушвица видел ночные кошмары и не мог спать каждую ночь последующие 20 лет после окончания войны (Fisher,1978). Интерпретируя полученные данные, всегда следует помнить, что, например, последние 6 % участников интервью, которые считают, что им помог сон, могут быть как сравнительно небольшой группой выживших вопреки их пассивности, так и благодаря ей.
Некоторые значимые различия обнаружены в способах справляться с трудностями в последующей жизни участников.
 |
Значимость различий по отдельным качествам, выявленным при ответе на вопрос:
«Что в себе помогало вам преодолевать трудности в жизни?» |
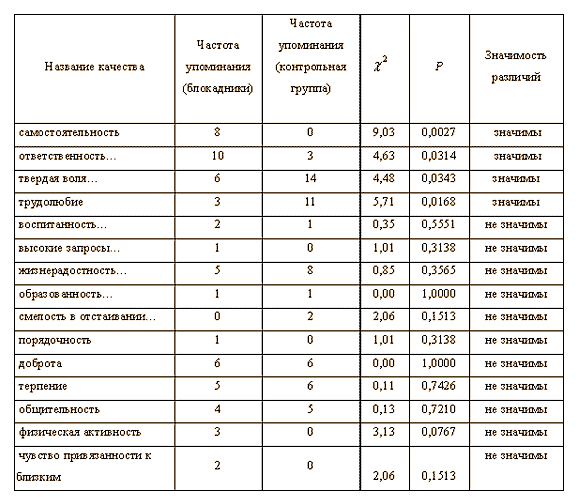 |
|
Мы отчетливо видим, что такие качества, как «твердая воля и трудолюбие» помогали жить людям, пережившим войну вне блокадной ситуации; для блокадников же проверенным способом оказались «самостоятельность и ответственность». Интересно, что и в отношении жизненных ценностей обнаружено особое отношение блокадников к такой ценности, как ответственность (как к присущему им качеству, так и к качеству, ценимому ими в людях), также важным ресурсом в себе они видят самостоятельность. Вопрос заключается в том, не навязана ли эта самостоятельность блокадой и не сломлена ли вера в «твердую волю» в этот же период развития блокадного ребенка? Дело в том, что для формирования личности ребенка совершенно необходима возможность проявления его активности и получение видимого результата от этого. Так, по нашим наблюдениям, люди совершенно преображаются, когда говорят о том, что они, будучи детьми, могли сделать для семьи и близких в блокаду («мой папа черпал маленьким ведерком воду из бомбоубежища вместе с его мамой, которая отвечала за состояние помещения»; «приносил кусочки своего хлеба для матери из детского сада»; «шестилетний мальчик, мой дядя, принес домой кусок конины, который ему дал солдат, и до сих пор светится от счастья, когда об этом рассказывает…»). Эта эмоциональная близость «исторического» опыта дает нам шанс научиться чему-то и понять необъяснимое. 
М.А.Гулина,
профессор факультета психологии
|