|
№ 6–7 (3773–3774), 5 мая 2008 года
|
 |
|
9 мая — день победы
|
 |
 |
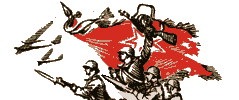
О чем думал следователь?
Тот вечер я помню до мельчайших подробностей, а ведь мне тогда было 16 лет, теперь же... Сколько прошло? Страшно подумать... 70 лет.
Я помню даже то, что мы с папой читали: он — «Севастопольскую страду» Сергеева-Ценского в толстом журнале, а я свою любимую газету «Кино» о сценарии фильма «Полководец Суворов».
А до этого мы всей семьей ходили в кино. В кинотеатре «Художественный» папа взял дорогие билеты — по 1р. 75 коп., и мы смотрели фильм «Ленин в 1918 году». Папа объяснял нам с сестрой имена непонятных для нас персонажей. Как всегда, он все знал и мне было от этого приятно, гордо.
Придя домой, мы попили чай и мама с Марой легли спать. А я после болезни еще в школу не ходила и могла посидеть с папой в столовой, почитать.
Как я любила вот так сидеть рядом с ним на диване, чувствовать его плечо, вместе читать, говорить, задавать вопросы.
— Пап, я все-таки не могу понять, как ты смог в
17 лет — всего на год старше меня — уйти из своей семьи, жить один, самостоятельно?
Папа, как всегда, отвечает не сразу, сначала подумает, заглаживая при этом волосы назад, потом ответит.
— Тебе не бывает неприятно в школе есть вкусные бутерброды, когда другие ребята едят невкусные? – спросил папа.
— Очень даже бывает. Я стараюсь их есть незаметно.
— Тогда ты поймешь, что мне было стыдно жить богато, когда люди вокруг меня живут бедно, плохо, в том числе и мои друзья. А мой отец и другие в семье так не считали, я и решил уйти, жить отдельно и добиваться достойной жизни для всех людей.
— И зарабатывал репетиторством? Ты смог, если был отличником... А я бы не смогла...
— Перестанешь болеть и будешь хорошо учиться.
— Смогу? А знаешь, как мне хочется поехать воевать в Испанию... Но ведь я много болею и трусиха... Очень боюсь тараканов.
— Тараканы — не самое страшное... Да, в Испанию тебе явно рано. Подрастешь и еще повоюешь... Ведь человек — не застывший камень, а меняющееся растение. Как захочешь — если очень захочешь — так себя и изменишь. И свои недостатки изживешь... Так ведь?
В это время позвонили в дверь. Я встала, открыла и удивилась, что ВОШЛО МНОГО ЛЮДЕЙ: военные, дворник, женщина со смущенным лицом...
Низкорослый военный протянул папе бумагу. Лицо папы стало бледным, даже голубоватым, но он спокойно сказал мне и вошедшей маме:
— Не волнуйтесь, это ошибка. Во всем скоро разберутся.
Я сразу успокоилась и с любопытством стала смотреть, как невысокий вежливый военный и его помощники делают обыск — вынимают из шкафа бумаги, что-то откладывают. Даже интересно — довелось увидеть обыск. Ничего не найдут и наверно, уйдут, поймут, что это ошибка.
Мама заметила, что папа поглаживает сердце, как бывало, когда оно болело — у него был порок сердца, — и стала капать лекарство.
— Не положено, — сказал военный.
— Как же не положено, если у человека болит сердце — не выдержала я.
И военный посмотрел на меня сочувственно, будто соглашался со мной. Но ничего не ответил.
— У меня ничего не болит, — сказал папа и перестал поглаживать сердце.
Военные аккуратно вынимали из книжного шкафа бумаги и почти все клали обратно. Отложили коробку из-под конфет с иностранной надписью.
— Эти конфеты мы недавно в «Елисеевском» купили, — сказала я.
Невысокий — он, конечно, был главный — внимательно, будто бы соглашаясь посмотрел на меня, хорошо посмотрел. И я поняла, что он добрый. Даже больше уверилась, что папу не уведут.
Но нет — главный военный посоветовал папе взять теплые вещи, мама смущенно вынесла безрукавку — ничего теплого больше не оказалось. Папа хотел взять часы.
— Зачем они вам? — спросил главный.
— Чтобы ориентироваться во времени, — сказал папа.
— Они с вами не будут.
Папа оставил часы на столе. Встал, надел свою шинель. Поцеловал нас, поколебался, попрощаться ли со спящей Марой, но решил ее не будить.
— Мы скоро увидимся. Произошло недоразумение, во всем разберутся.
И УШЕЛ. Я подбежала к окну и видела, как папа с военными подошел, поскользнувшись, к черной легковой машине, сел и уехал.
К утру я заснула, проснулась под громкие праздничные лозунги, звучавшие по радио. В этот день — 20 декабря 1937 года — как раз исполнилось 20-летие НКВД, и весь день говорилось об успехах наших органов. «Да здравствует НКВД — карающая рука советского народа», — кричало радио.
Каково это было слышать? Мара плакала — почему ее не разбудили, она не попрощалась с папой... Мы успокаивали ее — папа сказал, что это ошибка и он скоро вернется. Сестра приходила из школы с вопрошающим взглядом: «Не пришел?»
Мама писала письма Сталину, Ворошилову, Калинину, убедительно доказывала, что человек, отказавшийся от богатой жизни, от наследства, ушедший в революцию, защищавший нашу страну в Гражданскую войну, не мог быть ее врагом. Хорошо писала, доказательно.
Перестала писать после того, как увидела в окне, где принимали подобные письма, целую гору их на столе, они не помещались и падали на пол.
В один из дней почтальон протянул мне конверт с папиным почерком. Папа писал ОТТУДА и убеждал нас не беспокоиться, во всем скоро разберутся и мы увидимся. Давал маме советы о получении его зарплаты и что-то еще. Письмо просил уничтожить.
И еще пришло одно его письмо перед самым новым 1938 годом, мы поэтому встретили его радостно — скоро папа вернется!
Однако скоро нам сообщили, что папу приговорили к 10 ГОДАМ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ. Как же так?
Много позже я узнала, что арестом и обыском руководили обычно следователи. Значит, тот невысокий вежливый военный с добрыми глазами и был ПАПИН СЛЕДОВАТЕЛЬ.
Как же тогда он допустил это... 10 лет без права переписки.... Ведь он не мог не понимать, что за человек был наш отец, ведь он узнал его жизнь и не мог не понять его невиновность... Как же так?
Вероятно, именно он разрешил папе написать домой письма... Я больше не слышала о таком. И маму не арестовали, как жен наших соседей.
А в нашем подъезде дома Военно-политической академии на ул. Слуцкого (Таврической), 2, как потом выяснилось, из десяти живших там начальников кафедр, профессоров и руководящих работников не был арестован только один.
Помню, как папа, указав на дверь одного соседа, сказал: «Вот здесь живет человек, который пишет философскую главу в книгу по истории партии».
У нашего ближайшего соседа было трое детей. Даже двухлетних близнецов, названных Ромэном (в честь Ромэн Роллана) и Анри (Анри Барбюса), отправили в разные детские дома для детей изменников родины.
А нас не тронули. Как потом мы узнали, маму только выслали из Ленинграда. Возможно, что от всего, что выпало на долю наших соседей, нас спас тот человек с добрыми глазами.
Но почему же он не спас папу?
Неожиданно приехала из Орши тетя Зоя, мамина сестра. Строгая, сосредоточенная, решительная. Она приехала забрать нас к себе. Ее муж тоже закончил Военно-медицинскую академию и работал в воинской части, на его иждивении были жена и дочь, он брал еще и нас с сестрой.
— Ваш папа в 1921 году спас нас, четырех сестер и брата, — сказала она, — наступило время помочь нам.
И она рассказала, как он привез их в Старую Руссу, где служил, исхудавших, грязных. Их одежду пришлось сжечь и обрядить в перешитое военное. Папа был молодой, веселый и обращался к ним «Товарищи-братишечки». Но жить было с такой оравой трудно: тесно, голодно, и когда в том году родилась я, у мамы не было молока, и я росла болезненной.
В Орше нам жилось тоже тесновато и скудновато. Но это мелочь. Главным была тоска по отцу, по Ленинграду, привычной жизни.
Для меня самым важным стало стремиться делать все так, чтобы папа был доволен. Я лучше училась, занималась спортом, заслужила медали «Готов к труду и обороне», для чего пришлось долго, трудно идти в противогазе. Я даже получила значок «Ворошиловский стрелок». Но предстояло еще преодолеть свою трусость.
В саду отдыха возвышалась ПАРАШЮТНАЯ ВЫШКА. Я предложила своей смелой сестре прыгнуть с нее. «Давай», — сказала Мара, с недоверием посмотрев на меня. И я прыгнула. И испытала удивительную радость победы над собой! Теперь я не трусиха, я изменила себя. Папа был бы доволен.
Сестра отчаянно тосковала о папе и, прочитав «Как закалялась сталь» Н.Островского, поверила, что комсомол поможет ей добиться справедливости — освободить папу. Пыталась вступить в комсомол, но два раза ее не приняли. Из-за отца. Мара была мрачнее тучи. И я написала письмо в ЦК комсомола с вопросом: могу ли я вступить в комсомол, если мой отец арестован органами НКВД.
Вскоре получила ответ: да, можете, ведь тов. Сталин сказал — СЫН ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕЧАЕТ. После этого и меня, и сестру сразу приняли в комсомол.
Я не могла не удивляться — почему же Мару раньше не принимали, разве не знали этих слов Сталина?
Разве не знали этих слов в тех детских домах (детей изменников родины), в которых по ночам дети тайно, тихо плакали, не в силах сдержать свои запретные слезы.
Об этом я узнала много позднее из воспоминаний изведавших все это дочерей «врагов народа» — академика Н.Бехтеревой и ректора ЛГУ Л.Вербицкой.
Прочла я в архиве указание царя Николая I о том, что дети декабристов не отвечают за преступления своих отцов. И почему-то это указание монарха, как нам известно, выполнялось без дополнительных писем по каждому отдельному случаю.
Окончив школу с аттестатом отличника, я поступила в Ленинградский Университет, на истфак. Я помнила, как папа сказал, что сейчас особенно важно хорошо знать историю, философию, экономику.
После моего отъезда из Орши становилось все труднее сестре. В комсомоле она разочаровалась, тоска по папе и несправедливость разъедали ее душу. Почувствовав свое бессилие, она, 16-летняя, решила уйти из жизни — УТОПИТЬСЯ В ПРОРУБИ. Спасло ее то, что прорубь в ту ночь замерзла.
А вскоре началась ВОЙНА. Она отодвинула в сторону все, кроме необходимости спасать страну. В первые же дни из горящей Орши мама, сестра и родные бежали с детьми соседей на руках.
«Ни дня без помощи фронту» был, пожалуй, наш девиз, и я в Ленинграде, мама с Марой в Воронеже, так же, как множество других детей «врагов народа», обивали пороги военкоматов, стремясь идти на фронт. «У нас хватает мужчин» — отвечали тогда нам. Лишь в 1943 году сестра попала в армию, топографом в артиллерию, воевала под Сталинградом и Старой Руссой, была тяжело ранена. Стала инвалидом Отечественной войны.
А я тушила «зажигалки» на чердаке Двенадцати коллегий, рыла окопы, шила маскировки и носила воду из Невы для раненых госпиталя. Перенесла голодные обмороки и эвакуацию через Ладожское озеро.
Мы выдержали, Университет жил, работал в Саратове. Мы слушали необыкновенные ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА ВОЗНЕСЕНСКОГО, нашего «папы»-ректора, крепко полюбившегося студентам в блокаду.
Оказалось, что политэкономия открывает, каким образом происходит преобразование жизни людей на земле. Что же может быть важнее, интересней этого? Я, и не я одна, перешла с истфака на экономический, с увлечением занималась у чудесных профессоров. И обрела свой надежный университетский дом во главе с Ректором и профессором Александром Алексеевичем Вознесенским, которого считала и считаю идеалом человека.
Мы победили в войне, окончен Университет, я — преподаватель, теперь сама читаю лекции, меня любят студенты. Вот-вот кончится, наконец, материальная нужда.
Наступает долгожданный 1947 год. Для многих, в том числе и моей мамы и сестры. Но не для меня.
Еще в начале 1938 года до отъезда в Оршу со мной произошло нечто СТРАННОЕ, ТРУДНООБЪЯСНИМОЕ — я почувствовала, что папы не стало, я осиротела. Возникла страшная тоска, о которой невозможно было сказать близким. Как, что сказать?
Но я перестала верить, что папа жив.
Как возможно это объяснить? Тем, что папа — невропатолог по специальности — гипнозом лечил головную боль у мамы, и когда мы удивлялись этому, он говорил нам о том, что возможна даже передача мысли на расстоянии. На меня это произвело впечатление...
Моя полуфантастическая версия такова. Оказавшись в 1937 году в Большом доме, прозванном впоследствии «домом на крови», папа все понял и, возможно, просил следователя об одном — избавить от репрессий семью. Это было сделано.
Сам же он использовал страшное время тюрьмы для передачи мне, слабенькой дочери, своих мыслей, а точнее — внушения мне силы, здоровья, энергии.
В пользу этой версии говорит не только то, что я резко и болезненно почувствовала отсутствие папы в мире, но прежде всего то, что определенно стала здоровей и энергичней. У меня изменился характер — появились сила, настойчивость. Разумеется, это можно объяснить изменением условий жизни, чувством ответственности и так далее. Но все же... И каким образом я почувствовала исчезновение своего отца?
Много позже — через 50 лет в проклятый день папиного ареста 19 декабря я, как обычно, в горестном состоянии вышла из дома и будто услышала папин голос: «Так ты живи за меня». Голос веселый, я даже вспомнила его теноровый тембр. И он убедил меня снять эту страшную горечь, продолжать жить энергично.
Сестра меня называла «десять лошадиных сил», я действительно много успевала. Не стремилась ли я интуитивно жить и за отца, выполняя его внушение? Как объяснить все странности?
А тогда, в 1947 году, я молча смотрела на своих близких как на наивных детей, ожидающих возвращения отца.
Мара зачеркивает в календаре последние дни до папиного возвращения и в своей военной шинели идет в Большой дом.
«Когда вернется папа, как он узнает наш адрес?» «Идите домой и никуда больше не ходите, мы все, что надо, сообщим». Сообщений она напрасно ждала много лет.
Обман продолжался. Всесоюзная ложь стала государственной политикой.
В стране нашей шла ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ — открытая, явная, и скрытая, тайная. На поверхности люди работали, учились, улыбались, ходили на демонстрации, пели «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
А в «Больших домах», Лефортово, Лубянке и им подобных закрытых помещениях и подвалах шла тайная работа по оговору и осуждению особыми тройками или двойками множества людей к расстрелу или лагерю. Масштабы этой страшной тайной жизни были так велики, у стольких людей в открытой жизни исчезали родные, сослуживцы, известные деятели, что скрываемое, тайное, пробивалось наверх, омрачая жизнь в стране.
Массированную ложь не удавалось скрыть, и с годами она выявлялась все очевиднее. Слишком велики были ее масштабы. Неужели органы государственной лжи, делая надпись на делах убиенных: «Хранить вечно», надеялись навечно утаить свои злодеяния?
В ХРУЩЕВСКУЮ ОТТЕПЕЛЬ, в 1957 г., по моему запросу о судьбе отца меня вызвали в Большой дом. Суровый военный тоном вынесения приговора отчеканил: Эльяшов Леонид Евгеньевич, отбывая срок наказания, в 1943 году умер от брюшного тифа. Место смерти неизвестно.
Как удар хлыстом по лицу — умер... наказание... Но почему тогда неизвестно место смерти, если известен диагноз смерти? Ответов нет.
Но я получаю в государственном органе — ЗАГСе официальное свидетельство о смерти, как потом выяснилось, ложное.
Через много лет в ГОРБАЧЕВСКУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ по запросу о судьбе отца меня по телефону теперь уже ласковый голос пожилого особиста приглашает в Большой дом и там сообщает, что мой отец был расстрелян 22 января 1938 г.
Сколько можно вынести? Оказывается, папу расстреляли в день его 40-летия, точнее — в ночь после него.
И вспоминается, как за год до этого неожиданно для нас папа широко отметил свое 39-летие, пригласил своих лучших друзей. Обычно свой день рожденья он отмечал очень скромно, а тут...
Папа понимал слишком много. После гибели Кирова он очень изменился, стал задумчивым, редко улыбался. Он предвидел, и как оказалось, верно, что эта встреча последняя. Его друзья — Боген, возглавлявший городской здравотдел, Имянитов — директор Института повышения квалификации врачей, и профессор Скобло, возглавлявший Институт нейрохирургии, — исчезли еще раньше нашего отца.
В конце 80-х годов мне выдали другое свидетельство о смерти. В нем сказано, что причина смерти отца — расстрел, место смерти — Ленинград.
Но на мой вопрос — где расстреливали, в подвалах Большого дома? — любезный человек зачем-то солгал, сказал, что у них нет таких подвалов. Видимо, солгал по привычке, поскольку очень скоро по ТВ показывали именно эти подвалы.
Привычка лжи в годы большого террора въелась, расползлась, стала соответствовать морали слишком многих людей. Как иначе понять, что уже в XXI веке в передаче, которую ведет по ТВ по каналу «Культура» человек, связанный с этим министерством, ложь явно не осуждалась.
А разве могут быть лгунами порядочные люди? Есть ли хоть одна мать — теперь, наверно, уже есть — которая бы не учила своих детей не обманывать?
Я же хорошо помню слова своего отца: «Никогда ничего не скрывай. Говори всегда правду». И тон его при этом, вопреки обычной мягкости, был настойчивым.
Очевидно, что чем больше в мире лжи, тем меньше порядочности, и путь к преступности тогда широк и прост. И главная нынешняя беда страны — коррупция основана на этих пороках, поразивших страну как болезнь еще в 1937 году.
И тем не менее, я надеюсь, что большинство матерей и сейчас продолжают учить своих детей говорить правду.
Многие годы я ловлю себя на том, что веду молчаливый РАЗГОВОР С ТЕМ СЛЕДОВАТЕЛЕМ с сочувствующими глазами. И сегодня, 19 декабря 2007 года, когда мне уже 86, а его, вероятно, и нет в живых, я продолжаю с ним свой долгий, тяжелый разговор...
Понимали ли вы, что первоосновой этой массовой лжи были именно вы, следователи? Кто вынуждал людей говорить неправду, клеветать на себя и на других? И таким образом искажать историю страны?
Вы, люди с добрыми или циничными глазами, требовали в ходе дознания у подследственных не правды, а лжи.
Суть интересной профессии следователя — раскрыть преступление, распутать его — для чего необходимы ум, интуиция, терпение, талант, образец чему — Шерлок Холмс. Но разве следователям 1937 года требовались чутье и талант Холмса, чтобы раскрыть преступление? Им надо было совсем другое — составить бумаги, что человек, назначенный сверху преступником, признал себя виновным.
Ведь признание было объявлено Вышинским царицей доказательств преступления. К чему тут Холмсы?
Набор преступлений был определен: шпионаж, диверсии, вредительство, антисоветская пропаганда... Существовало также покушение на Сталина и его соратников.
Делом следователей было заставить людей подписать составленные бумаги. И вы гнали спущенный вам сверху дьявольский план. В те годы существовали и такие планы.
Что же заставляло вас выполнять античеловечные требования вышестоящих, теряя при этом свою человеческую душу? Привычка бездумно подчинятся? Страх? Вы-то знали, что с вами будет при переходе из карателей в караемых. 
Продолжение следует
Л. Л.Эльяшова,
выпускница ЛГУ
|