 |
 |
 |
 |
 |
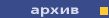 |
 |
 |
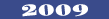 |
 |
|
1
2-3
4
5
6
7
|
 |
|
8
9
10
11
12
13
|
 |
|
14
15
16
17
18
19
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |

|
 |

|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
№ 5 (3791), 30 марта 2009 года
|
 |
|
юбилейная дата
|
 |
 |
Задуматься и...
прочитать Гоголя еще раз
Просматривая библиографию трудов М.М.Ковалевского, выдающегося ученого — юриста, историка, антрополога и социолога, я обнаружил две публикации о творчестве Н.В.Гоголя. М.М.Ковалевский был не только профессионалом-ученым, но и гуманистом, его интересовали искусство, литература. Он особенно хорошо знал русскую литературу, был близко знаком с И.С.Тургеневым, Л.Н.Толстым, А.П.Чеховым. О каждом из них он оставил статьи и воспоминания. Сам же он писал стихи и прозу. Статьи о Н.В.Гоголе связаны с его столетним юбилеем, который отмечали в 1909 году. В первой статье, опубликованной в газете «Русские ведомости» (1909, № 96), дается обзор событий в связи с юбилеем.
Наиболее интересна статья «Устарел ли Гоголь?», опубликованная в «Вестнике Европы» (1909, Кн. 4. Т. II). Уже само название статьи вызывает интерес. М.М.Ковалевский не касается художественных достоинств творчества великого писателя. Он ставит вопрос так: «Не лучше ли… спросить себя, насколько русское общество, им изображенное, перестало отвечать данному ему описанию». Как социолог и юрист М.М.Ковалевский приводит основные аспекты социально-нравственного падения российского общества, которые представлены Гоголем в его гражданских комедиях, и прослеживает реальную жизнь России начала XX века. Что изменилось? Очень мало. Господствует то же самоуправство чиновников, не соблюдаются законы, процветает мздоимство (по принципу «бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью», «всякой услуге положена своя цена»). Сословия в рамках общественно-политического идеала Гоголя не нашли себя. Нет формирования свободного гражданина как сеятеля благосостояния и просвещения. Вывод: Гоголь не устарел. А устарел ли он к своему 200-летию? Думаю, нет. То, о чем писал Гоголь в своих гражданских комедиях, во многом остается в нашей жизни, как и сто лет тому назад. Огромное чиновничество, нагромождение муниципальных, местно-государственных и федеральных структур, которые положили «всякой услуге свои цены», непрофессионализм, нищета селян, накопление денег на воровстве, бессовестный гламур, бесчисленные презентации, которые ведут к растрате и пьянству. Формирует ли все это свободного, деятельного гражданина, который послужит процветанию России? Статья М.М.Ковалевского заставляет задуматься над этим сегодня и прочитать Н.В.Гоголя еще раз.
А.О.Бороноев,
почетный профессор СПбГУ,
заведующий кафедрой теории
и истории социологии
Факультета социологии

Устарел ли Гоголь?*
Речь, произнесенная в Публичом собрании 19-го марта 1909 года
Что сказать о Гоголе такого, что бы не было сказано и сказано несравненно лучше, чем я могу сказать? Восхвалять ли его, как творца русской повести, как неподражаемого сатирика, как писателя, давшего рядом с Грибоедовым лучшие образцы гражданской комедии? Но разве должное уже не было воздано ему Тургеневым, Салтыковым, Островским? Позвольте мне, взамен всяких дальнейших рассуждений, передать вам только то, что я однажды случайно услышал от Щедрина. В моем присутствии старые друзья надумали превозносить автора «Истории одного города», как лучшего русского сатирика, и ставить его рядом с Гоголем. «Что вы! — воскликнул Михаил Евграфович, — рядом с Гоголем! Страшно подумать». Писатель, которого мы собрались помянуть сегодня, не нуждается более в чествовании. Не лучше ли, взамен этого, спросить себя, насколько русское общество, им изображенное, перестало отвечать данному ему описанию. Что сделано нами для того, чтобы «невидимые слезы», пролитые Гоголем при «видимом смехе», могли бы считаться пролитыми не напрасно? В какой мере произошло то врачевание общественных недугов, в котором Гоголь видел высшую миссию писателя вообще и свою в частности.
Судя априорно, можно было бы думать, что целая бездна отделяет нас от тех порядков и тех нравов, которые подверглись бичеванию Гоголевой сатиры в «Ревизоре», в «Утре делового человека», в «Мертвых Душах», или вызвали его веселый смех в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», в «Рассказах из Миргорода» и в повестях из быта петербургского чиновничества. Крепостное право исчезло, дворянская расправа и дворянское самоуправление сменились судом присяжных, земским и городским самоуправлением. Самоуправство бюрократии потерпело некоторое ограничение в создании Государственной Думы и восполнении Государственного Совета выборными от городов и земств, духовенства и университетов, дворянства и купечества. Россия после манифеста 17-го октября 1905 года может ли походить еще на Николаевскую Россию, с ее городничими, ревизорами и генерал-губернаторами? Раскроем однако «Мертвые Души» и спросим себя, все ли в них дышит стариною, не могли ли бы, например, жители Одессы или жители Ялты, передавая о недавних событиях своего города, употребить приблизительно те же выражения, какие, при беседе с Павлом Ивановичем Чичиковым о некоторых его провинностях, позволяет себе гоголевский генерал-губернатор. «Вы во всю жизнь, я думаю, не делали небезчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, есть воровство и безчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. Нет, теперь полно, с сей же минуты будешь отведен в острог и там наряду с последними мерзавцами ты должен ждать разрешения участи своей». И не вправе ли будет и теперь ялтинский гражданин, попавший в такую беду, восклицать вслед за Чичиковым, препровождаемым генерал-губернатором в острог: «Посудите, посудите, разве можно так поступать? Я — дворянин. Без суда, без следствия бросить в тюрьму!»
Не лишено будет также некоторой современности и следующее описание губернской неурядицы, какое Гоголь дает в конце тех же «Мертвых Душ». «В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные доставить хлеб, как-то не так распорядились, как следовало… В другом месте губернии мужики взбунтовались против помещиков… Какие-то бродяги распустили между ними слух, что мужики должны быть помещиками, а помещики нарядиться в армяки и сделаться мужиками… и не размысля того, что тогда выйдет слишком много помещиков, мужики отказались платить подати. Решено было прибегнуть к насильственным мерам». Кто знает, придется ли отнести к потерявшим смысл и значение архаизмам и речь, какою генерал-губернатор обращает на путь истины перед своим отъездом в Петербург вверенных его надзору администраторов. «Пришло нам время спасать нашу землю. Гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати языков, а от нас самих. Дело в том, что уже мимо законного управления образовалось у нас незаконное, гораздо сильнейшее всякого законного». Быть может, нас не особенно поразит и то средство, к которому генерал-губернатор намерен обратиться, чтобы искоренить отмеченные им настроения и крамолу. Ведь свидетелями его почти ежедневно являемся и мы. «Я намерен — кричит уезжающий в Петербург князь — следить не формальным следованием по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное время»… И несколько далее в той же речи: «Я полагаю военный суд единственным средством»… Губернская Россия и в то время, как и в настоящее, знала и знает ревизии, не ведущие ни к каким определенным результатам, и взяточничество, пустившее настолько глубокие корни, что образцовому генерал-губернатору, выведенному Гоголем, остается только воскликнуть: «Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью. Уже нет возможности многим идти против всеобщего течения». После этого неудивительно слышать из тех же генерал-губернаторских уст печальный вывод: «Ни одного чиновника нет у меня хорошего, все мерзавцы».
В обществе, в котором, по выражению честных администраторов, всякой услуге положена своя цена, и в котором к взяточничеству присоединяется еще взаимное шпионство и доносы, описанные Гоголем следующими словами: «Юрисконсульт дал губернатору знать стороною, что прокурор на него пишет донос, жандармскому чиновнику, что секретно проживающий чиновник на него доносы пишет, секретно проживающего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит», — в таком обществе немудрено, если число «огорченных», как выражается Гоголь, то есть недовольных существующим людей стало расти и приумножаться бесконечно. Эти огорченные люди, разумеется, сообщали свое огорчение, или недовольство, широким кругам. «Завелось и между мужичками, выражаясь языком Гоголя, что всякие бродяги стали их смущать и против властей восстановлять». А если человек притеснен, рассуждает своего рода новый Стародум, добродетельный откупщик Муразов, так он легко восстает. «Что-ж, будто трудно подстрекнуть человека, который точно терпит?» А терпеть русский народ начинал тогда, то есть в годы составления в Риме Гоголем второй части «Мертвых Душ», не от одного крепостного права. Коптители неба, Тентетниковы, эти «увальни, лежебоки и байбаки», как и всякие разорившиеся бездельники в роде Хлобуева, не столько утесняли мужика, сколько недостатком надзора за простым человеком позволяли ему сделаться «лежебокою, пьяницей и негодяем», по выражению того же Гоголя. Рядом с ними нарождался и другой тип помещика-кулака, тип, выведенный Гоголем в лице Костанжоглы или Скудронжоглы, как он назван в начальной рукописи. К такому лицу уместно было обратиться с вопросом: «Как приобрести, подобно вам, имущество не воображаемое, но существенное, и тем, исполняя долг гражданина, заслужить уважение соотечественников?» «Не потерплю праздности», говорил этот новый тип помещика-приобретателя, умевшего «накоплять деньгу из всякой дряни». «Не потерплю, так как я за тем над тобою, крестьянином, чтобы ты трудился». На такого помещика-приобретателя и тогда уже косились соседи. «У нас дворяне, — говорил он, — кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок». Это — те самые «приобретатели», о которых другой из выведенных Гоголем типов, Вишнепокромов, говорил с осуждением: «Капиталы не должны быть в одних руках. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги, ну сообщай другим, — угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам». Переживанием, уцелевшим остатком более отдаленного прошлого, выступают в поэме Гоголя те люди, каких, по исключению, мы встречаем еще и в наши дни, люди, о которых Гоголь повествовал: «На Руси, в Москве и других городах, водятся такие мудрецы, которых жизнь — необъяснимая загадка. Всё, кажется, прожил, кругом в долгах, ни откуда никаких средств, и обед, который задается, кажется последний. И думают обедающие, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит десять лет, мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах и так же задает обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же хозяина потащат в тюрьму»… Эти «беспутные» Хлобуевы, скорбная летопись которых заканчивалась залогом в ломбард населенных крестьянами имений, шли на убыль в то время, как размножалось племя других бездельников чиновного типа, с которыми еще приходится считаться и нам. Это те, про кого дядя Тентетникова, Онуфрий Иванович, говорил, что «главное дело в хорошем почерке, а не в чем-либо другом», что «без этого не попадешь ни в министры, ни в государственные люди». Среди всех этих удачников что было делать «огорченным», тем беспокойно-странным характерам, которые, по словам Гоголя, «не могут переносить равнодушно не только несправедливости, но даже всего того, что в их глазах кажется несправедливостью»? Им оставалось только, как думал Гоголь, «или от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса делаться горькими пьяницами, или с какими-то философами от гусар, да недоучившимися студентами, да промотавшимися игроками затевать филантропические общества под верховным распоряжением старого плута и масона, карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека», своего рода нового Репетилова, готового шуметь и только шуметь в обществах, устраиваемых с необыкновенно обширною целью — «доставить счастье всему человечеству». Кто склонен искать в этих словах карикатурное изображение современных Гоголю людей недовольных, тот не прочь будет признать в философствующем гусаре Чаадаева, того самого Чаадаева, о котором Пушкин писал: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он — офицер гусарский»… Но Гоголю почему-то понадобилось включить в одну с ним группу огорченных людей и того Загорецкого, о котором Грибоедов писал: «Ночной разбойник, дуэлист и крепко на руку нечист», и того «спивающегося от горя ревнителя справедливости, обыкновенно семинариста», который так хорошо известен нашей позднейшей литературе.
Едва ли не в число «огорченных людей» поместил бы Гоголь и своего обыкновенно восторженного восхвалителя, не замедлившего однако сделаться принципиальным его противником, Виссариона Белинского. Белинский не сразу открыл в Гоголе то, чем он был в действительности, то есть охранителя резко критикуемых им в их извращении основ русского самодержавно-поместного строя. Уже в «Мертвых Душах» Гоголь весьма серьезно относится к общественному служению помещика, понимая его в смысле «сохранения, сбережения и улучшения вверенных ему людей». В статье «О сословиях в государстве», относящейся к 1846-му году и включенной в «размышления» Гоголя о некоторых героях первого тома «Мертвых Душ», о дворянстве уже говорится, как о «цвете нашего населения». В награду за доблести, за испытанную честную службу, даются им в управление крестьяне в предположении, что они лучше других понимают высокие чувства и назначения и могут лучше править, чем простые чиновники. «Вольно было помещикам, позабывшим свою высокую обязанность, глядеть на крестьян, как на предмет только дохода для своей роскоши и увеселения. Этим они ничуть не доказали, что государи были неправы (вверив им попечение о крестьянах), а только то, что они сами уронили звание помещика». Для Гоголя «дворянству нашему досталась прекрасная участь — заботиться о благосостоянии низших.. Монарх поделился с ним своим попечением. Из-за этого они мол должны составить одно целое. Совещание они должны иметь между собою об управлении крестьянами. Дворянство должно быть сосудом и хранителем высокого нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра. Что касается до крестьян, то, состоя под управлением помещика, они имеют тоже о чем совещаться». Сословия граждан, то есть городских обывателей, в глазах Гоголя, должны быть стражами и хранителями народного благосостояния и призваны, поэтому, также выбирать из себя, как он выражается, чиновников, то есть исполнительных агентов. «Полиция только тогда не будет брать взяток и грабить, — прибавляет Гоголь, — когда граждане будут исполнять ее функции. Лучшая полиция — в Англии, по признанию всех, и то потому, что ею занимается город, выбирая для этого чиновника и платя ему жалованье от себя». Итак, все сословия участвуют в самоуправлении: дворяне имеют свои дворянские собрания, крестьяне — свой мир, города — свои магистраты и своих избираемых агентов. И во главе управления монарх-самодержец, «стоя выше всех и не будучи связан личной выгодой ни с каким сословием, ставит счастье всех своей высшей целью». Но для этого ему необходимо действовать заодно с верховным советом государства, состоящим из лиц, знающих его нужды и имевших случай стоять по службе на многих поприщах государственной деятельности. Правительство не имеет дела ни с кем порознь, но с целым сословием. Постановления верховного совета исполняются избранными от сословий, не получающими от правительства никакого жалованья. Политический идеал Гоголя недалек от того, на каком упорно стояли в первой половине XIX столетия люди в роде Бональда во Франции или Шталя в Пруссии, все те, кто старался примирить с неограниченностью верховной власти самоуправление свободных сословий и дворянскую опеку над кое-где еще несвободным крестьянством. Местное самоуправление рисовалось им близким по характеру к английским порядкам даровой и почетной службы. Романтическая идеализация средневековых порядков и знакомство с той критикой, какую на Западе встречала система индивидуализма или, что то же, буржуазный либерализм сторонников теории «laissez faire, laissez passer», объясняют нам причину того успеха, каким пользовались у нас, особенно со времени поездки Николая Павловича в Англию и его знакомства с Робертом Оуэном, те попытки организации труда, которые связаны с памятью об образцовой земледельческой колонии Нью-Ланарка, поставленной под опеку и руководительство земельного собственника. Если припомнить, что почти одновременно иезуиты в Парагвае пробовали приучить индейцев к правильному занятию хлебопашеством, при сильной помещичьей власти и прикреплении возделывателей к почве, то неудивительным покажется, если и русские дворяне не прочь были задаваться мыслью о своего рода коммунистической организации труда при сохранении крепостного права. Петр Бернгардович Струве в издававшемся им одно время в Петербурге журнале использовал в значительной степени материал, касающийся этих довольно эфемерных попыток влить вино новое в меха старые. Некоторые из этих опытов по всей вероятности свелись на деле к той организации контор и комиссий, которую так остроумно вышучивает Гоголь, говоря о полковнике Кошкареве. «Вся деревня полковника — описывает автор «Мертвых Душ» — была в разброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпича и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома в роде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: «депо земледельческих орудий», на другом: «главная счетная экспедиция», на третьем: «комитет сельских дел», «школа нормального просвещения поселян», словом, черт знает чего не было». Гоголя эти попытки примирить коммунизм с крепостным правом, разумеется, не увлекли, но они убедили его в общественном призвании помещиков быть организаторами сельскохозяйственного труда. «Где хлебопашество легло в основание быта общественного, — рассуждает он устами выведенного им заботливого помещика, — там изобилие и довольство. Бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Я говорю мужику, кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу ли, только трудись. В деятельности я тебе первый помощник. Всем, что нужно, готовь тебя снабдить, но трудись. Думают увеличить доходы заведениями да фабриками, да ты подумай о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат, так тогда ты и сам будешь богат без фабрик и заводов, да без глупых затей». Помещик — провидение внизу, бесстрастный самодержец — блюститель общего блага наверху: таков общественно-политический идеал Гоголя. Православное священство в такой же мере, как и генерал-губернаторы и добродетельные откупщики — избранные царем орудия для проведения его благодетельных начинаний в отдаленнейшие концы государства. Истинные патриоты поступают как откупщик Муразов, не отказывающий в своем предстательстве перед генерал-губернатором и низко павшему мерзавцу Чичикову, и дающему обольстить себя другими молодому Дерпенникову, «совершившему преступление против коренных государственных законов, равное — говорит Гоголь — измене против земли своей». Тот же Муразов, честно заработавший миллионы, посылает разорившегося помещика Хлобуева странствовать под видом сборщика пожертвований на вновь воздвигаемый храм, с задней мыслью, что он узнает на местах всё, как живут мужички, где побогаче, а где терпят нужду, и в каком состоянии всё. Он должен утешать терпящих и раздачей им пособий, и добрым словом, и рассуждениями о том, что Бог велит безропотно переносить удары рока. «Генерал-губернатор нуждается особенно в таких людях», прибавляет он. Кто из нас не знавал таких ходатаев в чужом интересе, содействие которых требовалось не одними генерал-губернаторами, и по-видимому, в той же уверенности, что прямое начальство, поставленные властью администраторы, не досмотрят и не дознают правды, и что для этого нужны тайные ревизоры с секретными предписаниями?
Общественно-политический идеал Гоголя далек от нас. Но та государственная разруха, упразднению которой он думал служить, продолжается по-прежнему и делает с каждым поколением все большие и большие успехи. Вот почему Гоголь не только для нас не умер (великие писатели, проникшие в тайны народной жизни, бессмертны и живут для всех времен): для нас Гоголь, к сожалению, и не устарел. Чиновная и дворянская Россия продолжает командовать и в правительственных советах, и в собраниях объединенных дворян. Она, подобно выводимому Гоголем типу националиста-патриота, все еще думает, что «у русского человека, даже у того, который похуже других, чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский. Стоит только, поэтому, русскому администратору сказать русским людям правду, как пред самим Богом — и они поспешат принесть свою исповедь» и, разумеется, исправятся.
Этого исправления мы продолжаем ждать и по настоящий день. Оно может быть достигнуто только переменой нравов, что в свою очередь тесно связано с исправлением общественных и политических порядков. Политически обновленная Россия, Россия, призванная к управлению собственными судьбами, на расстоянии одного–двух поколений создаст и новый тип, не чиновника и не просто обывателя, а свободного гражданина, сеятеля благосостояния и просвещения на необъятной русской ниве. Тогда и только тогда Гоголь, в числе типов которого нет ни одного гражданина, устареет. И это, разумеется, будет только к лучшему. 
Максим Ковалевский
*Сохранены орфография и пунктуация оригинала.
|