 |
 |
 |
 |
 |
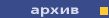 |
 |
 |
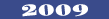 |
 |
|
1
2-3
4
5
6
7
|
 |
|
8
9
10
11
12
13
|
 |
|
14
15
16
17
18
19
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |

|
 |

|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
№ 1 (3787), 27 января 2009 года
|
 |
|
27 января — 65 лет со дня снятия блокады Ленинграда
|
 |
 |
Мой блокадный Университет
Под таким названием вышла в 2005 году в издательстве «Измайловский дом» моя небольшая книжка.
Я представляла на ее обложке здание нашего университета, и не сразу согласилась с ее оформителем Дмитрием Ивановым, поместившем на обложке мою блокадную фотографию. Однако художник обезоружил меня одним вопросом: «Что, по-вашему, — камни или люди больше представляют Университет?» Я сдалась.
Написать о войне я дала зарок в самое тяжелое время блокады в своем дневнике.
20 ноября 41 г.
Сегодня снова сбавили норму на хлеб. Мы получаем 125 грамм. Это уже пахнет настоящим голодом. Я не представляю, что мы можем умереть от голода. Это кажется слишком нелепым и ужасным.
Вот мне предстоит пережить голод. Впечатлений много. Лишь бы его пережить. Я, конечно, в этом уверена. Я ведь в глубине души еще уверена, что проживу счастливую жизнь и напишу книгу обо всем пережитом. Она будет содержательной и интересной — на человека рушится миллион несчастий, а он не теряет бодрости, верит в лучшее.
Только тогда надо быть последовательной и не терять бодрости. Сейчас обстреливают Васильевский остров. Темно, не могу писать.
Обещание написать книгу обо всей своей жизни также стараюсь выполнить — заканчиваю ее под названием «Как быть счастливой в безумном мире?»
А у книжки «Мой блокадный университет» оказалась счастливая судьба. Читатели назвали ее светлой книгой о блокаде. Я получила много интересных отзывов, в том числе и от специалистов. От них я узнала, что по физиологическим показателям мы все должны были умереть, выжили за счет психо-эмоциональной сферы. И многие даже сохранили «интеллект без возраста» Есть такой медицинский термин.
Мне хотелось бы предложить читателям журнала три небольших отрывка из книги «Мой блокадный университет».
Л.Л.Эльяшова,
выпускница ЛГУ
На чердаке Двенадцати коллегий
В октябре 1941 года мы, студентки второго курса истфака Ленинградского университета, Лариса Белан, Фаня Загускина, Лера Кузнецова и я стали членами местной противопожарной обороны.
Наш пост находился на чердаке Главного здания университета — мы оберегали от пожара знаменитое здание Двенадцати коллегий, построенное еще при Петре.
По сигналу — вою воздушной тревоги мы стремглав спускались с третьего этажа Физического института, где проводили сутки своего дежурства, пересекали узкий двор и взбегали на чердак, рассредоточившись по своим местам. По несколько раз в ночь мы бегали на свой пост, простаивая там часами.
На чердаке были заготовлены бочки с водой, ящики с песком, щипцы, руковицы — все нужное для тушения пожара при попадании зажигательных бомб. Песок с началом войны в Ленинград завозился эшелонами, я сама по 10 часов в день — по закону военного времени — не разгибаясь, выгружала его с платформ. Происходило это на Черной речке, куда я шла мимо печального памятника — места дуэли Пушкина.
Зажигательных бомб сбрасывали немцы много и вначале они пугали — пробивали железную крышу и с жужжанием разбрызгивали искры, как мощные бенгальские огни. Однако вскоре мы научились их быстро выбрасывать в окна во двор или засыпать песком. Особенно ловко это делала Лариса, на пост которой их приходилось больше всего.
Совсем рядом, с кораблей на Неве, оглушительно стреляли зенитки, их осколки могли пробить крышу над нами и потому при их особо интенсивной стрельбе мы становились под кирпичные своды чердака, прижавшись друг к другу, склонив головы под защиту сводов. То же мы делали при самом страшном — визгливом, скрежещущем падении фугасных бомб. Мы замирали — в нас или мимо… а при разрыве невольно вырывался вздох облегчения — пронесло. По звуку и силе колебания здания, — а оно явно колебалось — мы научились различать мощность фугасной бомбы, дальше или ближе она упала. Радовались, если казалось — в Неву, ужасались — не в Зимний ли или Петропавловский собор.
Как-то нас из трамвая во время тревоги загнали в траншею у самого Зимнего дворца, где, стоя на одной ноге от тесноты, я провела часа два. И поняла, что, если находиться на земле, падение фугаски не так страшно, как с высоты, но отвратительно ощущение вхождения бомбы в землю, которая при этом вибрирует совсем рядом с тобой. Когда же после тревоги мы вышли на воздух, многим, и мне в том числе, сделалось плохо — от перепада воздуха.
Самым тревожным оказалось наше дежурство в ночь на 7 ноября 41 года. С вечера и всю ночь мы только и бегали туда — обратно, вверх — вниз, вверх — вниз. На бегу под вытье сигналов тревоги и скрежет падающих бомб слышали отрывки доклада Сталина о 24-й годовщине Октября. Бомбы, видимо мощные, падали настолько часто, что здание Университета покачивалось, мне казалось, я стою на качелях.
Мы устали сжиматься от страха, потом даже тело побаливало. Говорили: «Если переживем эту ночь, будем жить до ста лет. Только бы пережить!» Утром радостно вздохнули — пережили!
Я насчитала в ту ночь семь длинных тревог, а потом узнала, прочла в книге «Блокада день за днем», что немцы в ту ночь сбросили на Ленинград более ста фугасных бомб. Они собирались устроить еще более страшный массированный налет, но их планы все же сорвали наши летчики.
При всех трудностях дежурств мы всегда ощущали, что под нами находится наш университет, его известное здание, наш бесконечно длинный коридор, которым мы ходили в библиотеку, Актовый зал, мы их оберегаем. А если суждено погибнуть, то вместе. Но погибать нам никак не хотелось.
В особенно праздничном настроении отметили мы праздник Октября. Днем пошли в БДТ на спектакль Театра комедии «Давным-давно» о Надежде Дуровой, которую играла стройненькая Елена Юнгер. А вечером устроили пир, даже пили вино, выданное к празднику, пели и танцевали, разумеется, друг с другом.
Площадь того аспиранта
Теперь эта площадь носит имя Сахарова, а еще недавно и все годы, которые я по ней ходила, она была безымянной. И какой-то неприбранной, местами незаасфальтированной, хотя с одной стороны в нее упиралось Главное здание университета, его Двенадцать коллегий, а с другой — Библиотека Академии наук, знаменитая БАН. Казалось бы, такое соседство обязывало… Вокруг находились и иные немаловажные здания: справа — истфак, слева — студенческая столовая, а за БАНом — Академия тыла и транспорта.
Это фундаментальное темное здание зловеще даже по своему виду. И не только. Раньше там размещалась Военно-политическая академия имени Толмачева, в которой работал мой отец и куда мы с ним ходили, пересекая эту площадь. Академия успела отметить свой юбилей, хор пел специально придуманную к юбилею песню: «Встречаем Академии 15 лет», успела получить орден Ленина.
Юбилей отмечали широко — в Мариинском театре, где после торжественной части показали столь интересный концерт, что присутствовавший на нем Сергей Миронович Киров один номер пригласил на Торжественное собрание партактива, посвященное 17-й годовщине Октября.
Это была пантомима «Челюскинцы», поставленная знаменитым балетмейстером Захаровым — автором «Бахчисарайского фонтана». Исполняли ее дети работников Академии, и я оказалась в их числе как исполнительница роли льдины. Конферансье того Торжественного вечера, Леонид Утесов, объявлял наш номер, а потом мы слышали, как он говорил: «Вот как выступают наши детки!» И своими глазами видели азартно хлопающего нам, улыбающегося Кирова. Ему оставалось жить меньше месяца…
А Толмачевской академии — несколько лет… Ее почти целиком репрессировали в 37-м году, и в Москве создали другую, имени Ленина.
Площадь же эта, еще безымянная, играла исключительную роль в жизни студентов, особенно в блокаду. Она, собственно, была источником нашей жизни, ибо там находилась 8-я студенческая столовая. До войны после занятий на истфаке мы перебегали эту площадь, чтобы пообедать в своей привычной, очень дешевой столовой. В сентябре 41-го на истфаке уже был госпиталь и в «восьмерку» мы стекались уже из разных мест своей учебы и работы. И еда там уже была совсем другая. Вначале, выстояв большую очередь, мы могли получить по карточкам невероятно вкусные конские котлеты. Потом, уже без карточек, нам давали дрожжевые супы. В первый раз этот суп мне и подругам казался совершенно несъедобным, потом мы с удовольствием ели эти спасительные броуновские супы, называемые так по имени их создателя университетского профессора-химика Броуна.
Но особенно мне запомнилась и осталась в памяти на всю жизнь эта площадь по одной встрече… Шел, вероятно, январь 42-го года. Наше общежитие на 5-й линии, 66, уже было разрушено двумя фугасными бомбами — вплоть до бомбоубежища. В уцелевшем флигеле, где мы жили, царил сковывающий холод. Он был даже страшней голода и бомбежек. Чтобы хоть немного согреться, мы, окоченевшие, шли из общежития в Главное здание университета, где всегда был горячий титан с кипятком. Стоило пройти
4 остановки, чтобы ощутить тепло руками, держащими горячую кружку, а потом согреть горло блаженной горячей струей.
Как мы благодарили нашего ректора за это тепло, этот титан! Вскоре ректор спас нас тем, что перевел жить на филфак, где были печи, и сказал: «Топите мебелью». Ах, как мы отогрелись, как горящие стулья спасли нашу жизнь! Но это было потом.
Тогда же мы шли из нашего общежития-морозильника к титану, шли через эту безымянную площадь, уже подходили к университетскому двору, когда увидели ЕГО… Он лежал на снегу на спине, в откинутой руке — портфель.
К тому времени мы уже привыкли — если к этому можно привыкнуть, — что лежат люди, которым ты не можешь помочь. Помню, как вначале я помогала встать еще живым упавшим. Одного старика я тянула изо всех сил. Ничего не вышло. И мы уже знали, что надо стараться не смотреть.
Но тут мы все четверо остановились и смотрели — не могли не смотреть. Он был очень красивый. Темные волнистые волосы шевелил ветер над высоким белым лбом… Черное пальто, портфель в откинутой руке. Мы решили, что он — аспирант, наверно, физик, шел на занятия, не дошел… Если бы он не был таким красивым…
Я запомнила его на всю жизнь, будто видела вчера. И всегда, когда прохожу по этой площади, вспоминаю его. А эту безымянную площадь я называла площадью ТОГО АСПИРАНТА. Для себя так называла.
Хорошо, что она теперь — площадь Сахарова. Подходит. Но для меня она все равно остается площадью ТОГО АСПИРАНТА.
Незабываемые учителя
1940-й год… Лекторий истфака набит первокурсниками. Мне занимает место в первом ряду подружка.
И вот появляется полноватая фигура профессора Лурье. Он до того увлечен историей древней Греции, что начинает лекцию еще не дойдя до кафедры, на ходу. Кажется, он захлебывается своими знаниями, говорит быстро и записать его не легко, но мы стараемся.
Элегантный профессор Равдоникас читает не спеша, но он забывает о своей элегантности, когда в азарте лекции показывает, как ходит пятикантроп. Он — автор учебника «История первобытного общества», по которому нам предстоит сдавать ему экзамен.
Этот учебник лежит у меня на подносе под эскимо, которое я продаю в цирке, в антрактах. Зрители, видя учебник, часто спрашивают меня: «Вы студентка?» Да, работа в цирке выручила меня после введения платы за обучение и драконовских условий получения стипендии — треть «4», две трети «5». Готовлюсь я к экзаменам во время цирковых представлений, сидя на галерке, под возгласы «ап» и «алле» сестер Кох, Кио, Карандаша.
А вот профессор Ковалев сразу очаровал нас мастерством своих лекций по истории древнего Рима. Хотя — ходили слухи, что он совсем недавно вернулся на истфак из тюрьмы, был репрессирован и освобожден. Говорили, что раньше он читал еще лучше. Куда уж лучше? — удивлялись мы.
Самый маститый наш лектор — Василий Васильевич Струве, он академик и автор толстенного учебника «История древнего Востока», который нам тоже предстоит сдавать. Но в его крупной фигуре и во всем облике нет никакой важности, а о его доброте на экзаменах ходят анекдоты. Рассказывали, как он подсказывает студентам ответы на свои вопросы, а ставя оценку незнайкам, обычно извиняется: «Больше четверки, голубчик, я вам поставить, к сожалению, не могу».
Когда же я сдавала ему экзамен, Василий Васильевич, буквально со страдальческими глазами поставил мне вполне заслуженную четверку. Дело в том, что экзаменаторов в том году строго проинструктировали — «не либеральничать».
Много лет спустя историк Евдокия Марковна Косачевская рассказала мне об одном Ученом совете факультета, на котором ее кандидатуру отвели от занятия должности доцента на том основании, что за последние 5 лет она не написала научные работы. Василий Васильевич выступил и сказал: «Какой надо обладать жестокостью, чтобы обвинять человека в отсутствии у него научных работ, зная, что эти пять лет он провел в нечеловеческих условиях» (Е.М. была в тюрьме и лагерях).
Мы ценили, любили своих прекрасных профессоров, но как это ни покажется странным, аплодисментами мы провожали с лекции лишь скромного доцента Авейде, читавшего нам историю партии. Молодой, крепкий, в одежде военного типа, он начинал лекции со слов: «Товарищ спрашивает» и выкладывал на кафедру собранные накануне вопросы. Он умудрялся так откровенно отвечать на наши непростые вопросы, что мы за это, вероятно, и полюбили его. Правда, и лекции он читал интересно, азартно, поднимая наше настроение.
О его судьбе до нас доходили тягостные сведения. В начале войны он, комиссар крупного подразделения, из-за отступления его части с поля боя был расстрелян.
Второй курс начался у нас 1 сентября 1941 года на филфаке, поскольку в здании истфака размещался госпиталь. Мы удивились, как нас мало, и почти одни девочки. Наши мальчики в эти дни уже все сражались на фронтах и погибали.
Декан Владимир Васильевич Мавродин поздравил нас с началом учебного года и сказал, что мы будем неделю заниматься, неделю работать в госпиталях. Так не получалось, и мы старались ежедневно и учиться и работать. После ночного дежурства в госпитале или в пожарной команде на занятиях закрывались глаза и мы просили друг друга щипать, чтобы будить.
Лекции эти проходили уже под грохот обстрелов и бомбежек. И я удивлялась, как это пожилой профессор Иван Иванович Толстой читает свою историю литературы, не вздрагивая при взрывах, будто не слышит их.
Так же спокойно и интересно читал историю средних веков профессор Вайнштейн.
Впоследствии те, кто работал, и я в их числе, ходили на лекции все реже и реже. Но сохранились легенды о том, как в самое лютое — голодное и холодное — время Матвей Александрович Гуковский, с трудом доходивший до университета, читал лекцию о казни Марии Антуанетты, о ее дороге и мыслях по пути к гильотине. Люся Рыжикова, рассказывала потом, что они на той лекции профессора забыли и о войне и о желании есть.
В октябре 1942 года у нас, историков третьего курса, учебный год начинался с новой лекции — неизвестной политэкономии. Мы сидим в нарядной аудитории Саратовского университета и ждем профессора Вознесенского. Ректора Вознесенского мы хорошо узнали и полюбили за время войны, но как-то он читает лекции?
И вот он вошел, как всегда, подтянутый в темном костюме, белоснежной рубашке с галстуком. Молодой, красивый, но совершенно седой. (Говорили, это след 1937 года.) Казалось, что его светлые глаза смотрят прямо на тебя, строго и дружественно.
И началось необыкновенное. Лектор нам поверял крайне важные, сложные и интересные мысли об основах жизни человеческого общества. Не надо ничего запоминать, но очень хочется, необходимо все понять, постигнуть. И мы напряженно слушаем, боясь пропустить хоть слово.
За свою долгую жизнь я слышала очень много лекций, в том числе и прекрасных, но более захватывающих, чем лекции профессора Вознесенского, не встречалось.
Раскрасневшиеся, с блестящими глазами, мы удивленно переглядывались уже на лекции, а после нее некоторые из нас поняли, что именно эта наука — его. Я одной из первых перешла на экономический факультет, не испугавшись даже дополнительной сдачи нескольких экзаменов.
И потом стойко переносила ироничное приветствие декана истфака Мавродина: «Здравствуйте, ренегат». Археологов он с истфака все же не отпускал.
Университет в Саратове стал немногочисленным и на 3-м курсе экономического факультета училось пять девочек. А нам читали лекции и вели семинары семь профессоров, в том числе с мировым именем.
Так, декан факультета Виктор Владимирович Рейхардт, глубокий знаток экономики и философии, удостоился перевода своей книги на японский язык. Был он добрейшим человеком и деканом, деликатным, скромным, любящим студентов. Мы платили ему тем же, но, к сожалению, как потом выяснилось, не все.
Декан стремился развить у нас самостоятельность творческого мышления и приглашал студентов на заседания кафедры на научные диспуты, дискуссии. Всячески побуждал нас высказывать свои суждения, прислушивался к ним и в своем заключении разбирал и наши робкие высказывания, наряду с профессорскими. И нас также называл по имени отчеству.
Виктор Морицевич Штейн в 20-е годы был экономическим советником Сун ят-Сена, знал европейские языки и китайский, преподавал его аспирантам. Нам же он читал историю экономических учений, и читал так, что мы, заслушавшись, забывали записывать лекции. Его эрудиция была безбрежна: не случайно одно время он был деканом географического факультета, впоследствии — восточного.
Такой скучный предмет, как экономика промышленности, вел восторженный профессор Яков Самойлович Розенфельд. И умудрялся его давать, как чуть ли не веселый предмет.
Деньги и кредит с присущим ему юмором преподавал нам шутник Михаил Юрьевич Бортник. Самым же строгим был статистик Некраш, который тем не менее обнимал и целовал студентов при известии о прорыве блокады.
Все эти блестящие ученые читали нам лекции глаза в глаза и нам ничего не оставалось, как постигать эти науки. Но мы постигали у них и их интеллигентность, манеру общения, что также давало нам несказанно много.
Во время эвакуации студенты узнавали своих профессоров куда ближе, чем в довоенное время, и почти все они только выиграли от этого тесного общения. Озабоченные горестями войны — В.М.Штейн потерял на фронте единственного сына, — оторванные от своих кабинетов и библиотек, в условиях трудного быта, скученности (семьи Рейхардта и Розенфельда жили в одной, перегороженной занавеской комнате), университетские ученые достойно несли бремя войны. Те, кто помоложе (В.В.Рейхардт) шли в Народное ополчение, но были возвращены в университет.
Помимо специальных знаний, они давали своим ученикам уроки высокой человечности и мужества. Большинство из них были интересными, широко образованными людьми, богатыми личностями, не гнушавшимися при этом никакой работы. Так, вместе с нами они разгружали дрова с барж.
Уважение к студенту без всякого панибратства, доверие к нему — таков был господствующий стиль отношений.
И как же мы любили своих Учителей! И не только своих. Многие профессора других факультетов выступали с публичными лекциями, воспоминаниями, просто общались со студентами. И мы знали и любили географа С.В.Калесника, астронома К.Ф.Огородникова, геолога С.С.Кузнецова, математика Г.М.Фихтенгольца, историков В.В.Мавродина и М.А.Гуковского. филолога Б.М.Эйхенбаума.
Но несомненными всеобщими любимцами, на лекции которых набивались студенты разных факультетов, были экономист А.А.Вознесенский и филолог Г.А.Гуковский.
Григорий Александрович прославился в Саратове публичными лекциями по русской литературе, которую он читал от Кантемира до Маяковского, и приносил Лекторию не меньше чем три четверти всех доходов. На его лекции стремился весь город. Знаю по себе, что они запоминались на всю жизнь.
Но на беду всех нас университетский любимец казался подозрительным в соответствующих органах, которые стали подбираться к нему через его любимую студентку Иру Семенко. Ее настойчиво рекомендовали нашему Комитету комсомола исключить за отрыв от коллектива и высокомерие. Мы ослушались указаний сверху, ее не исключили. Тем не менее Гуковскому запретили возвращение в Ленинград вместе с университетом. . Он вернулся через год и еще 5 лет трудился на радость ЛГУ. Всего 5 лет … Ему не дали дописать работу о Гоголе, так и оборвана она на полуслове…
Почему тираны так не выносят талантливых людей? Вероятней всего потому, что они их антиподы, личности совсем другой, непонятной им породы — любящие людей, жизнь, свое дело. И конечно, свободу, без которой немыслимо творчество и не реализуется талант. Но самое возмутительное то, что они смеют иметь собственное мнение. Независимое.
Уже через 3 с лишним года после Победы стали выдумываться «дела» против любимцев студентов, против самых выдающихся людей университета. Конкретными исполнителями этих подлых дел всегда становились бездарности. Так, на нашем факультете ими был организован разнос книги Штейна, недавно получившей 1-ю университетскую премию. Их это не смущало — ведь в книге ни разу не упоминался И.В.Сталин. Да и фамилия автора «не та»…
После борьбы с «безродными космополитами» город накрыло абсурдное «Ленинградское дело».
Мог ли здравый ум вообразить, что эта гнусная выдумка уже через 4 года после победной войны смогла погубить главных организаторов военного сопротивления. И наших профессоров. На факультете не осталось ни одного профессора… Остро не хватало и других преподавателей. Так что лекции на младших курсах читали старшекурсники…
Наши блестящие профессора оказались в тюрьмах. Некоторые из них там и погибли. Виктор Владимирович Рейхардт… Ликарион Витольдович Некраш… Григорий Александрович Гуковский… Александр Алексеевич Вознесенский был расстрелян.
Судьба семьи Вознесенских кажется фантастической судьбой сказочных богатырей.
Люди исключительной одаренности и энергии, преданные своей стране и идее человеческого прогресса, они до 40–50 лет успели сделать удивительно много. Были ценимы и востребованы. И вдруг — черная пропасть клеветы и пыточных застенков.
Александр Алексеевич, Николай Алексеевич и Мария Алексеевна совершили трудно вообразимый великомученический подвиг — больше года они провели в запредельных для человека условиях и не подписали ни одной клеветнической бумаги, чем сорвали новые «дела». Считается, что подобное вынести невозможно, но все так и было. Подтверждают документы.
Вероятно, эти люди редчайшего мужества обретали силы в акте самого своего сопротивления. И это — героизм из героизма.
Были уничтожены многие теоретические работы братьев Вознесенских, в том числе и неопубликованные. Все делалось для того, чтобы о них забыли. Не вышло.
Николая Алексеевича Вознесенского, во время войны бывшего Председателем Госплана, сослуживцы называли «глыбой ума» И до сих пор в ряде зарубежных и отечественных работ его вспоминают как гениального организатора эвакуации на восток промышленности и создания там военного производства, позволившего победить германский фашизм. Признают, что экономическая победа нашей страны произошла уже в 1943 году, благодаря руководству «экономического стратега Победы»
Наш же профессор Александр Алексеевич Вознесенский сотни, нет, тысячи раз стоял за кафедрой рядом со своими учениками, читавшими лекции в самых разных вузах страны. Знаю по себе — при раскрытии сложных теоретических проблем, при ответах на трудные вопросы студентов, да и просто при нелегких обстоятельствах жизни, я думала: «А что бы сказал сейчас Александр Алексеевич? Как бы он вел себя? Что бы он ответил на этот вопрос?» И мой профессор неизменно помогал мне.
Знаю, он помогал многим. И докторам наук С.М.Фирсовой, до конца своих дней считавшей его Главным Учителем своей жизни, и В.С.Торкановскому и другим. А многолетний ректор Театрального института Н.М.Волынкин прямо говорил, что учился быть ректором у А.А.Вознесенского.
Некоторым нашим профессорам посчастливилось вернуться из лагерей и они работали, писали книги, статьи. Они не изменили себе, не потеряли творческого духа, сохранили свои особенности.
Так, на своей защите диссертации в 1967 году я с удивлением увидела уже очень старенького Якова Самойловича Розенфельда. И он, с присущей ему восторженностью, говорил о моей работе.
С Константином Марковичем Варшавским, также прошедшим лагеря, мы дружили до самой его кончины, почти до 90 лет. Он был редкостно строгим критиком моих работ, интереснейшим собеседником. Как-то во время прогулки по Неве в белые ночи он посоветовался со мной — не будет ли смешно, если он в свои 75 лет женится? «Ни в коем случае!» — уверила я, глядя на его стройную осанку. И он был счастлив до конца жизни.
После тяжелейших испытаний и даже после своего ухода наши прекрасные профессора продолжали нас учить, КАК ДОСТОЙНО ЖИТЬ. Учить далеко не только с кафедр. Примером своей жизни. И даже смерти. 
|