|
|
|
№ 19 (3677), 31 августа 2004 года
|
 |
|
|
 |
 |
 |
Думаете, поступили в университет — дело сделано? Как бы не так! Вам еще предстоит многое узнать и понять, чтобы стать универсантом. |
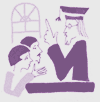 |
Искусство быть студентом
Если бы мне пришлось вновь учиться в университете, то я бы постарался стать хорошим студентом – во всяком случае, лучше, чем я был. Но смог ли бы? Как вспомню, что нам на первом курсе филфака сказали, что среднесуточная норма чтения русиста – 260 страниц… День пропустил, во второй прочти роман Достоевского целиком! И так четыре года из пяти – на последнем курсе пиши диплом. Не очень я верю в такие точные измерения, но образность в них есть: если принять трудозатраты при чтении сложной книги за сто процентов, то мытье полов за то же время потребует пяти процентов. Где взять силы? – А ведь читал, почти все прочел. Став преподавателем, я из студенческого бытия извлек разве что один урок: студента надо… нет, не беречь, не щадить, не одаривать снисхождением, а благодарить, что он своим тяжким тружданием участвует в сохранении благородных традиций alma mater.
 |
 |
Михаил Васильевич Иванов
1965-1970 — студент русского отделения филфака ЛГУ
(ученик Г.П. Макогоненко).
197 0-1973 — аспирантура Пушкинского дома. Специалист по русской литературе. Доктор филологических наук, профессор. Автор книги «Судьба русского сентиментализма». СПб., 1996.
С 1973 по 1987 г. читал на филфаке курс «История русской литературы XVIII века».
С 2000 — профессор кафедры общей психологии СПбГУ, читает курс «Историческая психология».
Специалист по русской литературе, исторической психологии и психологии искусства. |
|
Сейчас мне студенческие годы кажутся самыми счастливыми – до глуповатости. Интересно, как на меня смотрела читавшая курс литературы западного средневековья Галина Васильевна Рубцова? Запредельно полная (по нездоровью), одетая в черное полумонашеское платье, коротко стриженая, седая, флегматичная, плавная. Она садилась за широкий стол и, никуда не глядя, начинала говорить о Роланде или героях Боккаччо, спокойно переходя с русского на старофранцузский, итальянский, английский – с весьма обширными цитатами. Мне даже не верилось, что так можно говорить: переплавлять кипящую мысль в живое до незаметности слово, создавать вторую – блестящую – реальность. Я садился (заранее!) напротив сей «видом величавой жены», и, думаю, со стороны казалось, что я хотел все полтора лекционных часа впрыгнуть ей в глаза. Мне кажется, что и сейчас, через сорок лет, я могу повторить куски ее лекций. И трудность сдачи зачета заключалась не в том, чтобы его сбросить, а чтобы не упасть в глазах этой Прекрасной дамы филологии. Потом много лет я со смущением вспоминал, что в бурном ответе произнес: «рыцарь Бургундской марки», – и услышал уточнение: «Бретонской!». Теперь-то я понимаю, что Рубцова хотела меня остановить и дать немножко передохнуть.
Потом я слышал не одного замечательного лектора, многих: Бялого, Макогоненко, Лихачева, Панченко, Лотмана. Я осознаю, что те слушали своих учителей и старших коллег: Тынянова, Гуковского, Щербу, Пумпянского… Но никогда не пропадало удивление от того, как красиво течет река умных речений. Мне нравилось мое студенческое дело. Я сочувствую тем, кто учится без симпатии к своей профессии – бурлакам среди студенческой братии. И едва ли сейчас я смогу сказать им что-либо полезное. Мои мысли студента обращены к тем, кто рад своему месту и выбору.
Даже неискушенный абитуриент понимает, что студент должен многое узнать. Но едва ли догадывается о том, что это «бездна премудрости». Например, филолог обычно к одному экзамену по истории литературы должен знать творчество около 30 писателей. У каждого в среднем – пять программных произведений, а в одном из них в среднем пять героев – 750 имен литературных персонажей… Ну, пусть 500 – намного легче? – Нет. А таких экзаменов в каждую сессию два (по русской и по мировой литературе). И получается уже от тысячи до полутора тысяч сходящих со страниц персон. А тут еще и исторический фон: прототипы, читатели, критики, издатели, исторические деятели… Поэтому не приходится удивляться университетской норме академической науки. Как-то выдающийся русский филолог Григорий Александрович Гуковский высказал возмущение, что автор статьи неправильно раскрыл инициалы одного литератора. Фразу профессора запомнили многие: «В восемнадцатом веке в России было не так много грамотных людей, чтобы путать их имена!»
И то же самое можно сказать о багаже любой науки: о несметном числе видов растений и животных, мышц и костей человека, законов и подзаконных актов, пиктограмм и иероглифов, битв и династий, химических соединений и математических формул. Эрудиция – это форма университетской вежливости и основа профессионального достоинства. И ведь как хочется все передать компьютеру, а самому тратить силы только на движение пальца, извлекающего из винчестера нужную подсказку! Подобно мечте официанта, который сказал об идеальной работе: «Пусть бы клиенты обедали дома, а чаевые присылали по почте». Думаю, что другой контраргумент сильнее: «Даже если знания отпускают бесплатно, приходить надо со своей тарой».
По отношению к эрудиции ученый остается вечным студентом. Не в смысле незрелости из-за упущенного, недополученного знания, а в смысле самоуважения из-за пролитого студенческого пота. Вот, например, какую картину рисует Даниил Гранин в романе «Зубр». Праздновали 70-летие Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского – основоположника радиационной генетики. В глазах учеников он был патриарх биологии, мудрец из мудрецов, и вдруг…
«Явился на юбилей Зубра Борис Степанович Матвеев, один из учителей Зубра. Молодым, конечно, было удивительно видеть живого учителя их учителя. Борис Степанович вел у Кольцова практикум по позвоночным. Вдруг он спрашивает при всех у Зубра:
– Колюша, мы хорошо вас учили?
– Хорошо, Борис Степанович.
– А скажи мне тогда, Колюша, пожалуйста, как называются рудиментарные вены у млекопитающих, оставшиеся от рептилий?
Все замерли. Отмечали семидесятилетие Зубра. Борису Степановичу было за восемьдесят, но для молодежи оба они были одинаково ветхозаветными старцами.
Зубр засопел, насупился и выпалил:
– Vena azygos u vena hemiazigos!
Этого Борис Степанович не вынес, заплакал, и Зубр тоже умилился» (гл.44).
Остроумцы любят повторять: образование – это то, что осталось в голове после того, как ты забыл, чему тебя учили. Я готов согласиться с таким высказыванием, если его понимать не в смысле уничижения знания. Обычно этот афоризм трактуют так: давали вагон знаний, а сохранилась маленькая тележка – пустячок, горсточка. А мне кажется, разумнее было бы толковать так: давали состав знаний, а сохранился вагон – богатство!
С образом студента связано много мифов и предрассудков. Легкий, лукавый, берущийся за ум только в ночь перед экзаменом, фривольный, склонный к веселым слабостям (вину и донжуанству)… Таким является нам в средневековых песнях и легендах университетский студиозус… За словом в карман не полезет, выкрутится из любой экзаменационной передряги, сорвет все цветы удовольствия быстротекущей юности – в общем, «и папа, и султан». Очень обаятельный облик! Но похож на перспективного студента примерно так же, как цыган из романса на реального жителя табора… И очень большую ошибку совершил бы тот, кто определение студентов почерпнул бы из знаменитой, вековой песни: «они горькую пьют, они песни поют и еще кое-чем занимаются».
У шахматистов есть хорошее правило: прежде чем идти на выигрыш, присмотрись, есть ли у тебя ничья. Каждый принятый в студенты про себя думает, что уж он-то вполне справится с освоением университетской науки. К сожалению, такая самооценка может быть и завышенной. Обучение в университете начинается не с нуля. И новичку надо еще удостовериться, способен ли он удержаться на плаву. Вполне возможны и дефекты логического мышления, и низкая культура слова, и примитивная техника умственной работы, и неразвитость вкуса, и небольшая скорость чтения… Да мало ли чего будет нехватать. Естественно, что выпускники математической или филологической школы получат преимущество при учебе на «родственном» факультете: у них уже есть разбег. Но все-таки главное состоит в том, что постарался школьник сделать для себя сам.
Для примера приведу очень показательный случай из прошлого. В июле 1861 г. в Московский университет подал прошение о приеме на исторический факультет провинциальный семинарист и будущий великий историк Василий Осипович Ключевский. Он был из бедной семьи и учился в духовном училище на казенном коште. За право сдавать экзамены и обучаться первый семестр Ключевский заплатил почти непосильную для себя сумму: 25 рублей (двухгодичное содержание в семинарии!). Деньги назад не возвращались при неудачной сдаче хотя бы одного экзамена. А одна орфографическая ошибка в сочинении «отнимала право поступления в университет». Одна! Но Ключевский поступил. Для этого ему пришлось сдать 16 экзаменов: по латинскому, греческому, французскому и немецкому языкам, физике, математике, истории, закону Божию, географии и так далее – за восемь дней. Едва ли приходится сомневаться в том, почему у Ключевского был такой быстрый научный взлет: ему не требовалось латать прорехи школьной премудрости. Он обладал должной доуниверситетской подготовкой. И потому смог написать блестящее исследование, посвященное сказаниям иностранцев о России. Не уверен, что современный студент истфака смог бы легко прочесть первое издание этого труда: все цитаты из описаний России иноземцами давались в подлиннике (по-латыни, по-французски, по-немецки, по-английски) – и без переводов в сносках или примечаниях.
Мне все время приходится работать со студентами. И я постоянно задаю себе вопрос: почему же моя память о счастливой университетской поре высветляет все тяготы, которые я вижу в жизни тех, кто толпится в аудиториях и коридорах, озабоченно листает конспекты, в столовых за стаканом чая просматривает шпаргалки? Говорят, своя ноша не тянет. Сколько «несвоих» забот появится у выпускника потом! Но пока студент взгромождает на себя профессиональный груз. Чем больше он будет становиться «своим», тем меньше станет ощущение его гнета. Нынешний двадцатилетний учащийся, конечно же, погружен и в заботы о жилье и хлебе насущном. Но, к счастью, еще не захвачен практическими хлопотами о должном мироустройстве, а потому сосредоточен на личных затруднениях и препятствиях. В конце концов, сейчас надо набираться ума и опыта во благо избранного дела. Все остальное потом. И вот эта повышенная насыщенность сознания интеллектуальными радостями и тревогами порождает и кредо мастера, и предрассудки вечного подмастерья.
О предрассудках хочется сказать особо. Они питают мифические сказания о беззаботном, но удачливом студенте. В них есть логика, но мало надежды на успех. Источник возникающих фантомов реален: это большой объем учебной информации. Как всю ее вобрать в себя? Поэтому рождается подозрение, что преподаватели в тебя вталкивают много лишнего. Вообще-то лучше судить об этом потом, по окончании учебы. Иначе можно оказаться в критической ситуации. Я надеюсь, что читатель понимает: в анекдоте события нереальны, но поучительны и почти всегда уязвимы с точки зрения сверхсерьезной морали. И следующий анекдот, думаю, не заденет патриотических чувств. Во времена холодной войны американцы поймали двух слушателей военной академии. Их долго били, но ничего не узнали. Тогда одного расстреляли, а другому сказали: «Если еще сутки ты будешь молчать, тебе будет тот же конец». И этот бедняга бьется головой о стену камеры и кричит: «Ну, сколько раз мне говорили: учись, учись, учись!».
Почти всегда видишь студентов, которые убеждены, что являются жертвами педагогических излишеств. И можно понять, как молодым людям помогают разрядиться анекдот или легенда. Рассказывают, что один профессор анатомии носил широкий халат с большими карманами, где лежали фрагменты скелета. Принимая экзамен, владелец этой диагностической одежды брал за руку студента, совал руку в свой карман, на ощупь выбирал что-нибудь из содержимого, передавал отвечающему и, не давая рассмотреть, спрашивал: «Какая кость?» Рассерженные студенты поймали «приставаку», надели ему на голову мешок и, вынимая из ненавистного кармана ребра и ключицы, били ими их коллекционера по голове, интересуясь… ну, конечно!: «Какая кость?» Для успокоения, разумеется, подходит и такое повествование. А для поумнения лучше обратиться к истории с юбилеем Зубра.
Образ сверхобремененного студента дополняется его умением легко сбрасывать груз знаний на экзамене. Шпаргалки, остроумные ответы, подсказки и прочие символы имитационного знания в большом ходу у учащейся братии.
Вот еще анекдот. Людей спрашивают: «Сколько вам нужно времени, чтобы выучить китайский язык?» Профессор отвечает: «Пять лет и всю жизнь». Доцент: «Четыре-пять лет». Студент: «А когда экзамен?»
Меня многому научил один случай. Я три последние года школы занимался на малом филфаке. Занятия вели лучшие профессора, но организатором всех процедур была очаровательная и умная студентка-старшекурсница (я до сих пор с радостью раскланиваюсь с ней, встречая ее на улице или в метро; она стала прекрасной учительницей). И вот, поступив на филфак, я на третий день учебы, сразу после первой лекции по древнерусской литературе, отправился в Публичную библиотеку читать рекомендованные труды. Выбрал два тома «Повести временных лет», уселся с озабоченностью за стол и вдруг вижу: идет моя наставница с десятком книг. Мне даже неудобно стало за свои малые потребности. А она уже несет вторую стопку. Вдруг увидела меня и удивленно спросила: «Ты зачем здесь?» – «А вы?» – поинтересовался я, указав глазами на гору набранных ею фолиантов. «Ах! – вздохнула она, – так это ж для сдачи хвостов. Попыталась весной проскочить в расчете на везенье, а не удалось. И ты запомни: старайся сдавать с группой. Это всегда легче. Но для того, кто знает не хуже других, а кое в чем и получше. В студенческой среде тоже есть свой естественный отбор: на плаву остаются трудяги. А ленивые и азартные попадаются, и затем сдают экзамены индивидуально, попадают под пресс полного внимания профессора. Глупых отсеивают, умных приучают надеяться на свою старательность, а не на выигрышный, как в лотерее, билет».
Мне, конечно же, приходилось и «сбрасывать» экзамены. Но какие? Лучше бы их и не было: по теории социалистического реализма, по политэкономии социализма, по научному коммунизму. Правда, и здесь сдавал не без пользы. Актеры в массовках для изображения шума в толпе так переговариваются друг с другом: «Что нам говорить, когда нам нечего говорить?» И сценический эффект достигнут. В эту технику нужно было привнести разумоподобный подход. В конце концов, слушать-то тебя будут доценты и профессора, носители ученых степеней. Правда, они имеют (хоть и смутное) подозрение о сомнительности своего предмета и стараются не лезть в бутылку. Но солидность соблюдают.
Я для себя разработал технику зацикленной болтовни, отработал ее и во всей неуязвимости продемонстрировал на пятом курсе, сдавая теорию социалистического реализма. По остроумному определению сатирика, этот ведущий (и единственный! – вот она, логика) официальный стиль советской эпохи представляет собой похвалу начальству в доступной для него форме. Углубляться в его изучение было бы даже опасно для умственного здоровья. Но сдавать-то экзамен надо. Я открыл в «Философском словаре» главу, в которой на одной странице было объявлено, что «социалистический реализм – это…», из обширного определения взял существительные: интернационализм, оптимизм, прогресс, пролетариат, историзм, эстетическая сущность и прочие. На пустом листе нарисовал круг и в двенадцати его точках изобразил предписанные политиздатовскими жрецами словеса. Затем (из той же одностраничной статьи) взял 12 примеров, и обозначил бегущими от круга на периферию лучами. Историзм – «Петр I» А.Толстого. Пролетариат – «Поднятая целина» Шолохова. Партийность – постановления партии по вопросам литературы и искусства и так далее. Нужно было этот «солнечный круг» впечатать в память как зрительный образ и отправляться на экзамен. Дальше оставалось получить тему и через нее, как через ворота, въехать на корт и гонять скакуна соцреализма по всему кругу. Спрашивают про идейность? – Говоришь: «Идейность является важнейшей чертой соцреализма (устав Союза писателей), которая выражается в партийности (постановления), служении делу пролетариата («Поднятая целина»), олицетворяющего прогресс (тут о «призраке коммунизма») – и так далее, все с примерами. Если благосклонный экзаменатор заинтересуется «партийностью», то через «идейность» (устав) переходишь к оптимистичности («гвозди бы делать из этих людей»), затем к историчности («Петр I»). Если попытаются узнать мое мнение об «эстетической сущности», следует сразу же перейти к «идейности» и «партийности» как духовной базе художественного метода и поминать Шолохова с его Давыдовым, Нагульновым и Нобелевской премией. Меня отпустили с миром. А моей жене, которая не посетила ни одной лекции по этой аппетитной дисциплине, пришлось столкнуться с мстительным вниманием амбициозной экзаменаторши. Но система сработала: после многокругового скакания соцреалистического рысака через барьеры «пролетариата», «историзма» и «оптимизма» изможденная слушательница предложила жене поступить к ней в аспирантуру кафедры советской литературы, прибавив: «С вашим Пушкиным, как вы понимаете, вам путь в науку не светит». Предложение было отклонено с должным чувством юмора.
Существуют ли сейчас основания для такого поведения студента? Боюсь, что да. Мне пришлось составлять учебный план очень почтенной специализации. Но, к сожалению, спущенные сверху требования почти не дают свободы выбора. И там есть лишние, на мой взгляд, предметы. А если учесть, что курс истории России читают в вузах многоопытные специалисты по истории партии, а социологию и политологию преподают капитально подготовленные знатоки теории научного коммунизма, то невольно подумаешь: дело не только в программах. Но надеюсь, что в моем родном Санкт-Петербургском университете дело быстро меняется к лучшему. А если и встречаются замшелые лекторы-догматики, то при встрече с ними студенту разумнее развивать свое чувство юмора, чем искать оправдание для лени во всех профессионально важных случаях. Тогда в будущем, став авторитетным специалистом, он сможет ответственно и упорно улучшать то, чему станут учить следующие поколения. 
Продолжение следует.
|